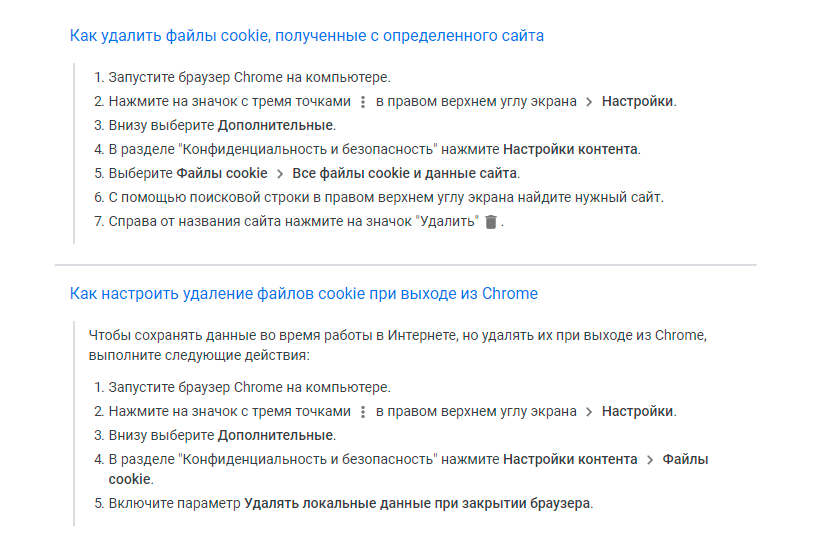Лето было тихое и ведряное, небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда утихал, из песка, чернея, торчали камни на выветренном месте; но от них тени не было.
Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крылечке и смотрела то в ту ‹сторону, где,› чернея, торчали камни на выветренном ме‹сте, то› на молочное небо.
Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то оттого, что у нее самой во всем теле как бы переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у него синие глаза, и вообще обо всем, что волновало ей кровь.
Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину, чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят.
Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы.
Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не натянешь, и все-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход.
Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло солнце. Свечерело уже совсем, и по белой воде заскользила на песчаный островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке, вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку.
В Палаге проснулось непонятное для нее решение. Она отвязала причало от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и, стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракуши. Она глядела на него и так же, как в первый раз, трепетала вся.
Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими рыбьими холодными глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась, страсть ее, как ей показалось, упала на дно лодки. «Окаянный меня смущаить!»— прошептала она. И, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидавая платья с себя, бросилась у берега в воду.
Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло, и снова защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула горячую голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит ветер. «Наваждение, — думала она, — молиться надо и пост на себя наложить!» Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага шептала:
«Господи, да скорея бы, скорея бы заморозки!»
Утром чуть свет она отправилась на деревню к обедне. Деревня была верстах в шести от белой воды, дорога вилась меж ржи, и идти было по заре, когда еще было легко и прохладно.
Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь, мучивший ее тело, утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтобы скорее настали холода, и, глядя на икону прикрытой рубищем Марии Египетской, просила у нее ее крепости одолеть свою похоть, но молитвенные мысли ее мешались с воспоминаниями о жгучей любви, она ловила себя на этом и, падая на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли.
По дороге обратно идти ей казалось труднее, с томленого тела градом катился пот, рубаха прилипала к телу, а глаза мутились и ничего не видели. Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо.
— Ты, эфто, бабенка, дыляко пробираисси-то. а? — спросил он, лукаво щуря на нее глаза, — а то, можа, вместе в лощинке и отдохнем малость?
Палага не слышала его слов, но стало приятно идти с ним, она весело взглянула ему в глаза и улыбнулась. Лицо его было молодое, только что покрывшееся пухом, глаза горели задором и смелостью. Можно было подумать, что он не касался ни одной бабы, но и можно было предположить, что он ни одной не давал проходу.
— Таперича я знаю — ты чья, — сказал он, пристально вглядываясь в лицо, — ты эфто, знычить, жена Корнея Бударки будешь. так оно и есть. Я тибе ище со свадьбы вашиной помню. Славная ты, как я ны тибе пыглижу. Эн лицо-то какое смазливое.
Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала:
— Жинитца пора тибе, чем по полю прохожих-то ловить. За этакое дело в острог сажают.
Парень обидчиво приостановился и выругался:
— Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои!
Палага, обернувшись, захохотала:
— А ты и вправду думаешь, што я боюсь тибе?
Сказав, она почувствовала, как груди ее защемили снова, глаза затуманились. Она забыла, зачем ходила в церковь, ночью выскакивала окунать свою голову в воду. Когда парень взял ее за руку, она не отняла руки, а еще плотней прижалась к нему и шла, запрокинув голову, как угорелая; кофточка на ней расстегнулась, платок соскочил.
— А должно, плохо биз мужа живетца-то, — говорил он, — я, хошь, к тибе приходить буду?
Солнце уже клонилось к закату, тени от кустов были большие, но в воздухе еще висел зной, пахнущий рожью.
Палага опустилась на колени и села. Она вся тянулась к земле и старалась, чтобы не упасть, ухватиться за куст. Парень подполз к ней ближе, обнял ее за шею.
Уже в душе ее ничего не было страшного, и не было больно за то, что вот что-то порывается в ее жизни; она прилегла на траву и закрыла глаза. Чувствовала, как парень горячими щеками прилипал к ее груди, его немного горькие от табаку губы, и когда почувствовала его жесткие руки, приподнялась и отпихнула его в сторону.
— Не нужно, — сказала она, задыхаясь, и, запрокинув голову, опустилась опять на траву. — Не нужно, тибе говорю!
Когда она ударила парня по лицу, он опешил, и, воспользовавшись этим, она побежала, подобрав подол, к дому.
Парень отстал. На повороте она заметила только один его мелькавший картуз, пригнулась и быстро шмыгнула в рожь. Прижалась к земле и старалась не проронить ни звука.
Уже погасла заря, месяц выплыл с белыми рогами над полем, и небо из белого обратилось в темно-голубое, а она все сидела и не хотела вставать.
Когда ночь стала совсем голубая, когда уже звезды тухли, она осторожно приподняла голову и посмотрела на дорогу. Дымился туман, и свежесть его пахла парным молоком. Ей страшно было идти, — казалось, парень где-нибудь притаился во ржи у дороги и ждет.
Небо светлело, ветерок, налетевший с восхода, поднялся к облакам и сдул последние огоньки мигающих звезд; над рожью вспыхнула полоса зари, где-то заскрипели колеса. Очнувшись от страха, Палага вышла на тропинку и, прислушавшись, откуда скрип колес, пошла навстречу.
Поравнявшись с подводами, она попросила, чтоб ее подвезли немного, до белой воды. Баба, сидевшая на передней телеге, остановила лошадь и покачала головой:
— Как же это ты ни пужаисси-то? Ночь, а ты Бог знаить анкедова идешь. По ржам-то ведь много слоняютца, лутчай подождать бы.
— Я ждала, — тихо ответила Палага, — привязался тут ко мне один еще с вечера. Все во ржи сидела, ждала, хто поедить.
Когда баба под спуском на белую воду повернула в левую сторону, Палага слезла, поблагодарила ее и пошла к дому. Башмаки от росы промокли, пальцы на ногах озябли, но она не обращала на это внимания, ей было приятно сознавать, что грех она все-таки поборола.
Вдруг вся она похолодела: парень сидел на крылечке ее избы и, завидя ее, быстро и ловко стал взбираться на гору. Пока она пришла в себя, уже был подле нее и схватил за руки.
— Ты штошь эфто, — говорил он, осклабивая зубы, — сперва дразнишь, а потом хоронисси. Типерь ни отпущу уж тибе, кричи не кричи — моя.
Палага стояла с широко раскрытыми глазами; то, что ее давило, снова стало подыматься от сердца; и вдруг разлилось по всем жилам. Она поняла, взглянув на парня, что бежала не от него, скрывалась во ржи не от него. Оттолкнув его руки, она бессильно опустилась на землю. Парень навалился на ее колени; она плотно прикусила губу, и на подбородок ее скатилась алая струйка крови.
— Да ты штошь, этакая-разэтакая, долго будишь ныда мной издяватца-то?! — крикнул парень и, размахнув рукой, ударил ее по лицу. И боль в ней вытесняла то, чего она боялась. Посыпавшимся на нее ударам она подставляла грудь, голову; виски ее заломили, она тихо застонала.
Ее опухшее в кровоподтеках лицо испугало парня, и, ткнув ее ногой в живот, он поднял свой соскочивший картуз, вытер со лба градом катившийся пот и пошел по дороге в поле.
Солнце поднялось высоко над водой, песок, на котором она лежала, сделался горячим, голова ныла от жары еще больше, губы спекались.
Приподнявшись кое-как на локти, она стала сползать к воде; руки царапались о камни, сарафан рвался. У воды, тыкаясь лицом, она обмыла запекшуюся на коже кровь, немного попила и побрела домой. На крыльце валялись окурки, спички и позабытый кисет. Взобравшись на верхнюю ступеньку, она села и обессиленно вздохнула.
Вода от холода посинела, ветла, стоявшая у избы Корнея, нагнулась и стряхнула в нее свои желтые листья. Небо подернулось облаками, река уже не так тихо бежала, как летом, а пенилась и шумела; Палага каждый день ждала мужа, и, наконец, он вернулся.
В тот день по воде шел туман. Когда Корней чалил у берега свою лодку, Палага не видела его из окна; она узнала лишь тогда, что он приехал, когда собака залаяла и радостно заскулила. Сердце перестало биться, ноги подкосились, и, задыхаясь, Палага выбежала ему навстречу.
Но она взглянула на него, и руки ее опустились. Корней был как скелет, из заросшего лица торчал один только длинный нос, щеки провалились, грудь ушла в плечи.
— Што с тобой?! — чуть не вскрикнула она и, скрестив руки от какого-то страшного предчувствия, остановилась на месте.
— Ничего, — болезненно улыбнулся Корней, — захворал малость, вот и осунулся!
В словах его была скрытая грусть.
Они вошли в избу. Он, не снимая шапки, лег на кровать и закрыл глаза. Палага легла с ним рядом, сердце ее билось. Прижимаясь к нему, она понимала, что делает совсем не то, что нужно, но остановить себя не могла.
Почувствовав ее дрожь, Корней приподнялся и с горькою улыбкой покачал головой:
— Силы у меня нет, Палага, болесть, вишь, — и, глядя на ее сочную грудь, на красные щеки, гладил ее плечи и сбившиеся волосы.
С тех дней, как Корней не вставал с постели, Палага побледнела и даже подурнела, глаза глубоко ввалились, над губами появились две дугообразные морщины, кожа пожелтела.
— Надоел я тебе, — говорил, свешивая голову с кровати, Корней, — измаялась ты вся, так што и лица на тибе ни стало.
Палага ничего не отвечала ему на это, но ей было неприятно, что он мог так говорить. За ту любовь, какую она берегла ему, она могла перенести гораздо больше.
Корней догадывался, отчего гас ее румянец, отчего белели губы, и ему неловко и тяжело было.
Когда же река стала опруживать заволокой льда окраины и лодки пришло время вытаскивать на берег, Палага наняла на деревне для этого дела сына десятского Юшку. Приходило время поправлять попортившиеся за лето верши, и Юшка принялся за починку.
Подавая ему нитки, Палага ненароком касалась его рук; руки от работы были горячие, приятно жгли, и Палагу снова стало беспокоить. Стала она часто сидеть у кровати, на которой лежал Корней, и еще чаще сердце ее замирало, когда Юшка, как бы нечаянно проходя, задевал ее плечи рукою.
Однажды ночью, когда Корней бредил своим баркасом, она осторожно слезла с лавки, на которой лежала, и поползла к Юшке в угол на пол.
За окном свистел ветер, рубашка на ее спине прыгала от страха. Юшка спал; грудь его то подымалась, то опускалась, а от пушистого и молодого, еще ребяческого лица пахло словно распустившейся мятой. Подобравшись к его постели, она потянула с него одеяло, Юшка завозился и повернулся на другой бок.
В висках у нее застучало. Она увидела в темноте его обнажившиеся плечи. Осторожно взобралась она на постель. Юшка проснулся. В первый момент на лице его отразилось удивление, но он понял и, вскочив, обвился вокруг нее, как вьюн.
Палага ничего уже не сознавала, тряслась как в лихорадке.
Когда она лежала снова на лавке, ей казалось, что все, что было несколько минут назад, случилось уже давно, что времени этому уже много, и ее охватила жалость, ей показалось, что она потеряла что-то. Затуманенная память заставила ее встать, она зажгла лампу и начала шарить под столом, на печи и под печью, но везде было пусто.
«Это в душе у меня пусто», — подумала она как-то сразу и, похолодев, опустилась с лампой на пол.
До рассвета она сидела у окна и бессмысленно глядела, как по воде, уже обмерзшей, стелился снег. Но как только она начинала приходить в себя, сердце ее занывало, она вспоминала, что жизнь ее с Корнеем оборвалась, что на радости их теперь лег узел, и, глядя на сонного Юшку, ей хотелось впиться ногтями в его горло и задушить.
Лицо Юшки было окаймлено невидимой, но все же понятной для нее бледностью, и, вглядываясь в него, она начинала понимать, что то, что отталкивало ее от него, было не в нем, а внутри нее, что задушить ей хочется не его, а соблазн, который в ее душе. Несколько раз она приближалась к спящему Корнею, но, глядя на его спокойно закрытые глаза, вздрагивала и, заложив руки за голову, начинала ходить по избе.
Когда рассвет уже совсем заглянул в окно, она испугалась наступающего дня; пока было темно, пока никто не видел ее лица и бледных щек, ей было легче; и вдруг ей захотелось уйти, уйти куда глаза глядят, лишь бы заглушить мучившее ее сознание.
Отворив дверь, Палага вышла на крыльцо и взглянула на реку. То место, где она обмывала свои побои, было занесено снегом. Она вспомнила, насколько она была тогда счастливее, когда подставляла под взмахивающие кулаки грудь и голову, и, обхватив за шею стоявшую подле нее собаку, зарыдала.
Собака сперва растерялась, завиляла хвостом, но, почувствовав, что в горле у нее щекочет, завыла; и вой ее слился в один горький и тяжелый крик утраты.
У белой воды (с. 146). — Бирж. вед., 1916, № 15753, 21 августа (3 сентября), с. 2.
Печатается и датируется по газетной публикации.
Работу над рассказом можно отнести предположительно к июню 1915 г., судя по письму Есенина к В. С. Чернявскому из с. Константиново от июня 1915 г. и по письмам Л. И. Каннегисера к Есенину от 21 июня из г. Брянска и от 15 августа и 11 сентября 1915 г. из Петрограда (см. комментарий к «Яру», с. 337—339.).
Рассказ остался не замеченным критикой.
В заглавии рассказа усматривается топоним, родственный обозначениям хутора и леса Белый Яр и луга Белоборка в окрестностях с. Константиново. Возможно, в связи с этим во всех книжных публикациях рассказа слово «белый» печаталось с прописной буквы как в заглавии, так и в самом тексте. В настоящем издании (как и в предыдущих, посмертных собраниях сочинений) восстановлены допущенные по вине наборщика пропуски во втором абзаце: «. смотрела то в ту ‹сторону, где,›чернея, торчали камни на выветренном ме‹сте, то› на молочное небо».
Название произведения ассоциируется с Беловодьем — легендарно-утопической страной свободы из русских народных преданий XVII-XIX вв.; по мнению старообрядцев, размещалась где-то на Востоке — в Японии, Индии — и имела реальным прообразом Бухтарминский край на Алтае; с 1870-х по 1920-е годы существовала Беловодская иерархия, нашедшая сторонников среди поповцев Сибири и Прикамья. Есенин интересовался старообрядчеством и мог узнать о Беловодье из книжных и устных источников. Н. А. Клюев, с которым Есенин лично познакомился несколькими месяцами позже создания рассказа, но задолго до его публикации, упомянет о Беловодье в Письме к В. С. Миролюбову в начале марта 1918 г.: «Тоска моя об Опоньском Царстве, что на Белых Водах, о древе, под которым ждет меня мой Царь и брат. Благодарение Вам за добрые слова обо мне перед Сережой. » (Письма, 317).
Белый цвет — символ духовной чистоты, высокой нравственности и непогрешимости в христианстве и цвет траура в крестьянской среде. По народному мировоззрению, за водным пространством находится иной мир, царство смерти. Белый как положительно-оценочный эпитет в применении к родине встречается в письме Н. А. Клюева к Есенину от 6 сентября 1915 г.: «Я пробуду в Петрограде до 20 сентября — хорошо бы устроить с тобой где-либо совместное чтение — моих военных песен и твоей Белой прекрасной Руси» (т. е. поэмы «Русь». — Письма, 209).
источник
Лето было тихое и ведреное, небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда утихал, из песка, чернея, торчали камни на выветренном месте; но от них тени не было.
Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крылечке и смотрела то в ту сторону, где, чернея, торчали камни на выветренном месте, то на молочное небо.
Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то оттого, что у нее самой во всем теле как бы переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у него синие глаза, и вообще обо всем, что волновало ей кровь.
Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину, чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят.
Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы.
Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не натянешь, и все-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход.
Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло солнце. Свечерело уже совсем, и по белой воде заскользила на песчаный островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке, вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку.
В Палаге проснулось непонятное для нее решение. Она отвязала причало от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и, стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракуши. Она глядела на него и так же, как в первый раз, трепетала вся.
Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими рыбьими холодными глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась, страсть ее, как ей показалось, упала на дно лодки. «Окаянный меня смущаить!» – прошептала она. И, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидывая платья с себя, бросилась у берега в воду.
Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло, и снова защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула горячую голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит ветер. «Наваждение, – думала она, – молиться надо и пост на себя наложить!» Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага шептала: «Господи, да скорея бы, скорея бы заморозки!»
Утром чуть свет она отправилась на деревню к обедне. Деревня была верстах в шести от Белой воды, дорога вилась меж ржи, и идти было по заре, когда еще было легко и прохладно.
Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь, мучивший ее тело, утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтобы скорее настали холода, и, глядя на икону прикрытой рубищем Марии Египетской, просила у нее ее крепости одолеть свою похоть, но молитвенные мысли ее мешались с воспоминаниями о жгучей любви, она ловила себя на этом и, падая на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли.
По дороге обратно идти ей казалось труднее, с томленого тела градом катился пот, рубаха прилипла к телу, а глаза мутились и ничего не видели. Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо.
– Ты эфто, бабенка, дыляко пробираисси-то. а? – спросил он, лукаво щуря на нее глаза. – А то, можа, вместе в лощинке и отдохнем малость?
Палага не слышала его слов, но стало приятно идти с ним, она весело взглянула ему в глаза и улыбнулась. Лицо его было молодое, только что покрывшееся пухом, глаза горели задором и смелостью. Можно было подумать, что он не касался ни одной бабы, но и можно было предположить, что он ни одной не давал проходу.
– Таперича я знаю, – ты чья, – сказал он, пристально вглядываясь в лицо, – ты эфто, знычить, жена Корнея Бударки будешь. так оно и есть. Я тибе ище со свадьбы вашиной помню. Славная ты, кык я ны тибе пыглижу. Эн лицо-то какое смазливое.
Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала:
– Жинитца пора тибе, чем по полю прохожих-то ловить. За этакое дело в острог сажают.
Парень обидчиво приостановился и выругался:
– Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои!
Палага, обернувшись, захохотала:
– А ты и вправду думаешь, што я боюсь тибе?
Сказав, она почувствовала, как груди ее защемили снова, глаза затуманились. Она забыла, зачем ходила в церковь, ночью выскакивала окунать свою голову в воду. Когда парень взял ее за руку, она не отняла руки, а еще плотней прижалась к нему и шла, запрокинув голову, как угорелая; кофточка на ней расстегнулась, платок соскочил.
– А должно, плохо биз мужа живетца-то, – говорил он, – я, хошь, к тибе приходить буду!
Солнце уже клонилось к закату, тени от кустов были большие, но в воздухе еще висел зной, пахнущий рожью.
Палага опустилась на колени и села. Она вся тянулась к земле и старалась, чтобы не упасть, ухватиться за куст. Парень подполз к ней ближе, обнял ее за шею.
Уже в душе ее ничего не было страшного, и не было больно за то, что вот что-то порывается в ее жизни; она прилегла на траву и закрыла глаза. Чувствовала, как парень горячими щеками прилипал к ее груди, его немного горькие от табаку губы, и когда почувствовала его жесткие руки, приподнялась и отпихнула его в сторону.
– Не нужно, – сказала она, задыхаясь, и, запрокинув голову, опустилась опять на траву. – Не нужно, тибе говорю!
Когда она ударила парня по лицу, он опешил, и, воспользовавшись этим, она побежала, подобрав подол, к дому.
Парень отстал. На повороте она заметила только один его мелькнувший картуз, пригнулась и быстро шмыгнула в рожь. Прижалась к земле и старалась не проронить ни звука.
Уже погасла заря, месяц выплыл с белыми рогами над полем, и небо из белого обратилось в темно-голубое, а она все сидела и не хотела вставать.
Когда ночь стала совсем голубая, когда уже звезды тухли, она осторожно приподняла голову и посмотрела на дорогу. Дымился туман, и свежесть его пахла парным молоком. Ей страшно было идти, – казалось, парень где-нибудь притаился во ржи у дороги и ждет.
Небо светлело, ветерок, налетевший с восхода, поднялся к облакам и сдул последние огоньки мигающих звезд; над рожью вспыхнула полоса зари, где-то заскрипели колеса. Очнувшись от страха, Палага вышла на тропинку и, прислушиваясь, откуда скрип колес, пошла навстречу.
Поравнявшись с подводами, она попросила, чтоб ее подвезли немного, до Белой воды. Баба, сидевшая на передней телеге, остановила лошадь и покачала головой:
источник
Здесь есть возможность читать онлайн «Сергей Есенин: У Белой воды» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Москва, год выпуска: 2008, ISBN: 978-5-699-26503-9, издательство: Эксмо, категория: Русская классическая проза / на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:
Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «У Белой воды»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Кто написал У Белой воды? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.
Возможность размещать книги на на нашем сайте есть у любого зарегистрированного пользователя. Если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия, пожалуйста, направьте Вашу жалобу на info@libcat.ru или заполните форму обратной связи.
В течение 24 часов мы закроем доступ к нелегально размещенному контенту.
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «У Белой воды», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.
Лето было тихое и ведреное, небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда утихал, из песка, чернея, торчали камни на выветренном месте; но от них тени не было.
Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крылечке и смотрела то в ту сторону, где, чернея, торчали камни на выветренном месте, то на молочное небо.
Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то оттого, что у нее самой во всем теле как бы переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у него синие глаза, и вообще обо всем, что волновало ей кровь.
Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину, чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят.
Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы.
Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не натянешь, и все-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход.
Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло солнце. Свечерело уже совсем, и по белой воде заскользила на песчаный островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке, вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку.
В Палаге проснулось непонятное для нее решение. Она отвязала причало от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и, стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракуши. Она глядела на него и так же, как в первый раз, трепетала вся.
Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими рыбьими холодными глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась, страсть ее, как ей показалось, упала на дно лодки. «Окаянный меня смущаить!» – прошептала она. И, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидывая платья с себя, бросилась у берега в воду.
Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло, и снова защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула горячую голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит ветер. «Наваждение, – думала она, – молиться надо и пост на себя наложить!» Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага шептала: «Господи, да скорея бы, скорея бы заморозки!»
Утром чуть свет она отправилась на деревню к обедне. Деревня была верстах в шести от Белой воды, дорога вилась меж ржи, и идти было по заре, когда еще было легко и прохладно.
Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь, мучивший ее тело, утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтобы скорее настали холода, и, глядя на икону прикрытой рубищем Марии Египетской, просила у нее ее крепости одолеть свою похоть, но молитвенные мысли ее мешались с воспоминаниями о жгучей любви, она ловила себя на этом и, падая на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли.
По дороге обратно идти ей казалось труднее, с томленого тела градом катился пот, рубаха прилипла к телу, а глаза мутились и ничего не видели. Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо.
источник
По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.
Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.
Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.
По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями трепыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.
Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.
— Волки, — качнулась высокая тень в подлунье.
— Да, — с шумом кашлянули притулившиеся голоса. В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона.
Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.
На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.
— Кабы не лес крали, — ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.
В запотевшие щеки дунуло ветром.
Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.
— Кто едет? — процедил его охрипший голос.
— Овсянники, — кратко ответили за возами.
— То-то!
К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.
— В чапыжнике, — глухо крякнул он, догоняя сивого мерина.
Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.
— Идут, — позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.
Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.
— Эй, Фанас, — дернул его Филипп за казенотовую поддевку. — Волки пришли на свадьбу.
— Никакой свадьбы не будет, — забурукал Ваньчок. — Без приданого бери да свадьбу играй.
Филипп, засмехнувши, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.
— Волки, говорю, на яру.
— Ась? — заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке. Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.
— Чукан, Чукан, — кликнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.
Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.
Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.
Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.
По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хрястнули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.
Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.
К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.
Филипп поднял было на приклад, но пожалел наскреб.
В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался, как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.
Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.
Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.
На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.
Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.
Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун.
По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.
Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.
«Упустил», — мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.
Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.
На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.
«Упустил-таки», — заколола его проснувшаяся мысль.
С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.
Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.
Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.
Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.
Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.
Филипп откинул бараний ворот.
— Откулева?
— С Чухлинки.
— Далеконько забрел.
— Да.
Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками.
— Я ведь гнал-то.
— Ты?
— Я.
Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.
— Коли гнал, поделимся.
Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.
— Скидывай кожух-то?
— Я хотел тебе сказать — не замай.
— А что?
— Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.
Незнакомец весело закачал головою.
— Так ты, значит, беги за салазками?
— Сейчас сбегаю.
Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.
— А как тебя зовут-то?
— Карев, — тихо ответил, запихивая за пояс нож.
источник
Лето было тихое и ведряное, небо вместо голубого было белое, и озеро,
глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде
качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по
песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда
утихал, из песка, чернея, торчали камни на выветренном месте; но от них тени
не было.
Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в
день сидела на крылечке и смотрела то в ту “сторону, где,” чернея, торчали
камни на выветренном ме»сте, то» на молочное небо.
Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и
не то от водяного зноя, не то оттого, что у нее самой во всем теле как бы
переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили
время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у
него синие глаза, и вообще обо всем, что волновало ей кровь.
Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов.
Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину,
чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем
начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина,
груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой,
она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят.
Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он
сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы.
Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже
чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть
еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она
помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не
натянешь, и все-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в
сторону, как связанная, и старалась найти выход.
Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло
солнце. Свечерело уже совсем, и по белой воде заскользила на песчаный
островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке,
вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку.
В Палаге проснулось непонятное для нее решение… Она отвязала причало
от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась
на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и,
стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракуши. Она глядела на
него и так же, как в первый раз, трепетала вся.
Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими рыбьими холодными
глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась, страсть ее, как
ей показалось, упала на дно лодки. “Окаянный меня смущаить!”- прошептала
она. И, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидавая платья с
себя, бросилась у берега в воду.
Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а
губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила
лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в
мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло, и снова
защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула
горячую голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит
ветер. “Наваждение, – думала она, – молиться надо и пост на себя наложить!”
Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага
шептала:
“Господи, да скорея бы, скорея бы заморозки!”
Утром чуть свет она отправилась на деревню к обедне. Деревня была
верстах в шести от белой воды, дорога вилась меж ржи, и идти было по заре,
когда еще было легко и прохладно.
Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через
плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь,
мучивший ее тело, утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтобы
скорее настали холода, и, глядя на икону прикрытой рубищем Марии Египетской,
просила у нее ее крепости одолеть свою похоть, но молитвенные мысли ее
мешались с воспоминаниями о жгучей любви, она ловила себя на этом и, падая
на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли.
2 По дороге обратно идти ей казалось труднее, с томленого тела градом
катился пот, рубаха прилипала к телу, а глаза мутились и ничего не видели.
Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь
тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо.
– Ты, эфто, бабенка, дыляко пробираисси-то… а? – спросил он, лукаво
щуря на нее глаза, – а то, можа, вместе в лощинке и отдохнем малость?
Палага не слышала его слов, но стало приятно идти с ним, она весело
взглянула ему в глаза и улыбнулась. Лицо его было молодое, только что
покрывшееся пухом, глаза горели задором и смелостью. Можно было подумать,
что он не касался ни одной бабы, но и можно было предположить, что он ни
одной не давал проходу.
– Таперича я знаю – ты чья, – сказал он, пристально вглядываясь в лицо,
— ты эфто, знычить, жена Корнея Бударки будешь… так оно и есть… Я тибе
ище со свадьбы вашиной помню. Славная ты, как я ны тибе пыглижу. Эн лицо-то
какое смазливое.
Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала:
– Жинитца пора тибе, чем по полю прохожих-то ловить. За этакое дело в
острог сажают.
Парень обидчиво приостановился и выругался:
– Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои!
Палага, обернувшись, захохотала:
– А ты и вправду думаешь, што я боюсь тибе?
Сказав, она почувствовала, как груди ее защемили снова, глаза
затуманились. Она забыла, зачем ходила в церковь, ночью выскакивала окунать
свою голову в воду. Когда парень взял ее за руку, она не отняла руки, а еще
плотней прижалась к нему и шла, запрокинув голову, как угорелая; кофточка на
ней расстегнулась, платок соскочил.
– А должно, плохо биз мужа живетца-то, – говорил он, – я, хошь, к тибе
приходить буду?
– Приходи!
Солнце уже клонилось к закату, тени от кустов были большие, но в
воздухе еще висел зной, пахнущий рожью.
Палага опустилась на колени и села. Она вся тянулась к земле и
старалась, чтобы не упасть, ухватиться за куст. Парень подполз к ней ближе,
обнял ее за шею.
Уже в душе ее ничего не было страшного, и не было больно за то, что вот
что-то порывается в ее жизни; она прилегла на траву и закрыла глаза.
Чувствовала, как парень горячими щеками прилипал к ее груди, его немного
горькие от табаку губы, и когда почувствовала его жесткие руки, приподнялась
и отпихнула его в сторону.
– Не нужно, – сказала она, задыхаясь, и, запрокинув голову, опустилась
опять на траву. – Не нужно, тибе говорю!
Когда она ударила парня по лицу, он опешил, и, воспользовавшись этим,
она побежала, подобрав подол, к дому.
Парень отстал. На повороте она заметила только один его мелькавший
картуз, пригнулась и быстро шмыгнула в рожь. Прижалась к земле и старалась
не проронить ни звука.
Уже погасла заря, месяц выплыл с белыми рогами над полем, и небо из
белого обратилось в темно-голубое, а она все сидела и не хотела вставать.
Когда ночь стала совсем голубая, когда уже звезды тухли, она осторожно
приподняла голову и посмотрела на дорогу. Дымился туман, и свежесть его
пахла парным молоком. Ей страшно было идти, – казалось, парень где-нибудь
притаился во ржи у дороги и ждет.
Небо светлело, ветерок, налетевший с восхода, поднялся к облакам и сдул
последние огоньки мигающих звезд; над рожью вспыхнула полоса зари, где-то
заскрипели колеса. Очнувшись от страха, Палага вышла на тропинку и,
прислушавшись, откуда скрип колес, пошла навстречу.
Поравнявшись с подводами, она попросила, чтоб ее подвезли немного, до
белой воды. Баба, сидевшая на передней телеге, остановила лошадь и покачала
головой:
– Как же это ты ни пужаисси-то? Ночь, а ты Бог знаить анкедова идешь…
По ржам-то ведь много слоняютца, лутчай подождать бы.
– Я ждала, – тихо ответила Палага, – привязался тут ко мне один еще с
вечера. Все во ржи сидела, ждала, хто поедить…
– То-то, ждала.
Когда баба под спуском на белую воду повернула в левую сторону, Палага
слезла, поблагодарила ее и пошла к дому. Башмаки от росы промокли, пальцы на
ногах озябли, но она не обращала на это внимания, ей было приятно сознавать,
что грех она все-таки поборола.
Вдруг вся она похолодела: парень сидел на крылечке ее избы и, завидя
ее, быстро и ловко стал взбираться на гору. Пока она пришла в себя, уже был
подле нее и схватил за руки.
– Ты штошь эфто, – говорил он, осклабивая зубы, – сперва дразнишь, а
потом хоронисси. Типерь ни отпущу уж тибе, кричи не кричи – моя.
Палага стояла с широко раскрытыми глазами; то, что ее давило, снова
стало подыматься от сердца; и вдруг разлилось по всем жилам. Она поняла,
взглянув на парня, что бежала не от него, скрывалась во ржи не от него.
Оттолкнув его руки, она бессильно опустилась на землю. Парень навалился на
ее колени; она плотно прикусила губу, и на подбородок ее скатилась алая
струйка крови.
– Да ты штошь, этакая-разэтакая, долго будишь ныда мной издяватца-то?!
— крикнул парень и, размахнув рукой, ударил ее по лицу. И боль в ней
вытесняла то, чего она боялась. Посыпавшимся на нее ударам она подставляла
грудь, голову; виски ее заломили, она тихо застонала.
Ее опухшее в кровоподтеках лицо испугало парня, и, ткнув ее ногой в
живот, он поднял свой соскочивший картуз, вытер со лба градом катившийся пот
и пошел по дороге в поле.
Солнце поднялось высоко над водой, песок, на котором она лежала,
сделался горячим, голова ныла от жары еще больше, губы спекались.
Приподнявшись кое-как на локти, она стала сползать к воде; руки
царапались о камни, сарафан рвался. У воды, тыкаясь лицом, она обмыла
запекшуюся на коже кровь, немного попила и побрела домой. На крыльце
валялись окурки, спички и позабытый кисет. Взобравшись на верхнюю ступеньку,
она села и обессиленно вздохнула.
3 Вода от холода посинела, ветла, стоявшая у избы Корнея, нагнулась и
стряхнула в нее свои желтые листья. Небо подернулось облаками, река уже не
так тихо бежала, как летом, а пенилась и шумела; Палага каждый день ждала
мужа, и, наконец, он вернулся.
В тот день по воде шел туман. Когда Корней чалил у берега свою лодку,
Палага не видела его из окна; она узнала лишь тогда, что он приехал, когда
собака залаяла и радостно заскулила. Сердце перестало биться, ноги
подкосились, и, задыхаясь, Палага выбежала ему навстречу.
Но она взглянула на него, и руки ее опустились. Корней был как скелет,
из заросшего лица торчал один только длинный нос, щеки провалились, грудь
ушла в плечи.
– Што с тобой?! – чуть не вскрикнула она и, скрестив руки от какого-то
страшного предчувствия, остановилась на месте.
– Ничего, – болезненно улыбнулся Корней, – захворал малость, вот и
осунулся!
В словах его была скрытая грусть.
Они вошли в избу. Он, не снимая шапки, лег на кровать и закрыл глаза.
Палага легла с ним рядом, сердце ее билось. Прижимаясь к нему, она понимала,
что делает совсем не то, что нужно, но остановить себя не могла.
Почувствовав ее дрожь, Корней приподнялся и с горькою улыбкой покачал
головой:
– Силы у меня нет, Палага, болесть, вишь, – и, глядя на ее сочную
грудь, на красные щеки, гладил ее плечи и сбившиеся волосы.
С тех дней, как Корней не вставал с постели, Палага побледнела и даже
подурнела, глаза глубоко ввалились, над губами появились две дугообразные
морщины, кожа пожелтела.
– Надоел я тебе, – говорил, свешивая голову с кровати, Корней, —
измаялась ты вся, так што и лица на тибе ни стало.
Палага ничего не отвечала ему на это, но ей было неприятно, что он мог
так говорить. За ту любовь, какую она берегла ему, она могла перенести
гораздо больше…
Корней догадывался, отчего гас ее румянец, отчего белели губы, и ему
неловко и тяжело было.
Когда же река стала опруживать заволокой льда окраины и лодки пришло
время вытаскивать на берег, Палага наняла на деревне для этого дела сына
десятского Юшку. Приходило время поправлять попортившиеся за лето верши, и
Юшка принялся за починку.
Подавая ему нитки, Палага ненароком касалась его рук; руки от работы
были горячие, приятно жгли, и Палагу снова стало беспокоить. Стала она часто
сидеть у кровати, на которой лежал Корней, и еще чаще сердце ее замирало,
когда Юшка, как бы нечаянно проходя, задевал ее плечи рукою.
Однажды ночью, когда Корней бредил своим баркасом, она осторожно слезла
с лавки, на которой лежала, и поползла к Юшке в угол на пол.
За окном свистел ветер, рубашка на ее спине прыгала от страха. Юшка
спал; грудь его то подымалась, то опускалась, а от пушистого и молодого, еще
ребяческого лица пахло словно распустившейся мятой. Подобравшись к его
постели, она потянула с него одеяло, Юшка завозился и повернулся на другой
бок.
В висках у нее застучало. Она увидела в темноте его обнажившиеся плечи.
Осторожно взобралась она на постель. Юшка проснулся. В первый момент на лице
его отразилось удивление, но он понял и, вскочив, обвился вокруг нее, как
вьюн.
Палага ничего уже не сознавала, тряслась как в лихорадке.
Когда она лежала снова на лавке, ей казалось, что все, что было
несколько минут назад, случилось уже давно, что времени этому уже много, и
ее охватила жалость, ей показалось, что она потеряла что-то. Затуманенная
память заставила ее встать, она зажгла лампу и начала шарить под столом, на
печи и под печью, но везде было пусто.
“Это в душе у меня пусто”, – подумала она как-то сразу и, похолодев,
опустилась с лампой на пол.
До рассвета она сидела у окна и бессмысленно глядела, как по воде, уже
обмерзшей, стелился снег. Но как только она начинала приходить в себя,
сердце ее занывало, она вспоминала, что жизнь ее с Корнеем оборвалась, что
на радости их теперь лег узел, и, глядя на сонного Юшку, ей хотелось впиться
ногтями в его горло и задушить.
Лицо Юшки было окаймлено невидимой, но все же понятной для нее
бледностью, и, вглядываясь в него, она начинала понимать, что то, что
отталкивало ее от него, было не в нем, а внутри нее, что задушить ей хочется
не его, а соблазн, который в ее душе. Несколько раз она приближалась к
спящему Корнею, но, глядя на его спокойно закрытые глаза, вздрагивала и,
заложив руки за голову, начинала ходить по избе.
Когда рассвет уже совсем заглянул в окно, она испугалась наступающего
дня; пока было темно, пока никто не видел ее лица и бледных щек, ей было
легче; и вдруг ей захотелось уйти, уйти куда глаза глядят, лишь бы заглушить
мучившее ее сознание.
Отворив дверь, Палага вышла на крыльцо и взглянула на реку. То место,
где она обмывала свои побои, было занесено снегом. Она вспомнила, насколько
она была тогда счастливее, когда подставляла под взмахивающие кулаки грудь и
голову, и, обхватив за шею стоявшую подле нее собаку, зарыдала.
Собака сперва растерялась, завиляла хвостом, но, почувствовав, что в
горле у нее щекочет, завыла; и вой ее слился в один горький и тяжелый крик
утраты.
источник
Р ассказ «У белой воды», главной героиней которого является жена рыбака Палага, поднимает сложную тему нравственного конфликта между духовной чистотой и греховностью плотской чувственности. Название рассказа ассоциируется с Беловодьем — легендарно-утопической страной свободы из русских народных преданий XVII–XIX веков, которая, по мнению старообрядцев, размещалась где-то на Востоке, а реальным прообразом имела Бухтарминский край на Алтае.
Рассказ написан и впервые опубликован в 1916 году в газете «Биржевые ведомости».
- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»
- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
- Как предложить событие в «Афишу» портала?
- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?
Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».
Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.
Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, отправьте простую заявку нам на почту stream@team.culture.ru. Образец можно скачать здесь. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.
Если у вас есть идея для трансляции, но нет технической возможности ее провести, предлагаем заполнить электронную форму заявки в рамках национального проекта «Культура»: culture.ru/bid. Если событие запланировано в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года, заявку можно подать с 16 марта по 1 июня 2019 года (включительно). Выбор мероприятий, которые получат поддержку, осуществляет экспертная комиссия Министерства культуры РФ.
Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».
В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».
Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.
источник
Детство и отрочество Есенина. Источники впечатлений и их значение в лирическом творчестве поэта. Роль церковно-учительской школы в формировании мировоззрения Есенина. Первые выступления в печати. Анализ ранних стихотворений Есенина (1910-1914). Письма Есенина школьному другу Грише Панфилову. Связи поэта с рабочими типографии «Т-ва И. Д. Сытина», поэтами-суриковцами, профессорами и слушателями народного университета им. А. Л. Шанявского. Демократические тенденции в ранней поэзии Есенина.
Поэзия раннего Есенина неоднородна и неравноценна. В ней сталкиваются подчас совершенно противоположные поэтические традиции и отчетливо заметны неодинаковые общественные устремления поэта. Нередкие в прошлом и не преодоленные в наше время попытки подтянуть это противоречивое творчество к какому-либо одному ряду стихотворений, выделить один, пусть и очень звонкий мотив, одно, даже часто повторяющееся настроение не раз приводили исследователей к недопустимым крайностям.
Взятая же в целом, во всей кричащей несхожести, поэзия Есенина с покоряющей эмоциональной силой, во множестве больших и малых оттенков удивительно правдиво раскрывает тот социально-психологический мир, порождением которого она только и могла явиться.
В прочном сплаве звонких, жизнерадостных, близких русскому сердцу мелодий и ослепительно ярких цветов с пресным, неподвижным и не чуждым крестьянину аскетизмом религии рождалась поэзия Есенина, и ее корни глубоко вросли в родную и с детства знакомую стихию.
Как и многие в пору ученичества, Есенин не избежал подчас близких ему, а иногда и случайных, инородных влияний. И все-таки неизменно на одной и той же почве расцветали мотивы его лирики: то безудержное удальство и безмятежная радость, то кроткая смиренность, а то и уныние и безысходная грусть.
Поэзия Есенина запечатлела своеобразный синкретизм крестьянской психологии в его сложной противоречивости: в детскости и в дряхлости, в младенческих порывах в туманную даль и в мертвой неподвижности, в постоянных оглядках на вековые традиции патриархальной старины.
Этот «древний, таинственный мир», конечно же не был замкнут в самом себе, в него свободно и бурно врывались веяния революционной эпохи и, сталкиваясь с дедовскими понятиями, высекали искры будущих «пожаров и мятежей».
Сумел ли начинающий поэт уловить веяния нового времени? Разглядел ли он вспышки уже занимавшегося зарева, услышал ли раскаты грома или заглушил их надсадным религиозным песнопением и густым звоном колоколов «молившейся до пота патриархальной России»?
В ранних стихотворениях Есенина немало сочных, ярких картин близкой ему с колыбели родной природы. Заслоняют ли они бурную общественную жизнь русской деревни или в многоцветье есенинской лирики угадываются настроения предреволюционного крестьянства?
Круг этих сложных вопросов не первое десятилетие привлекает внимание исследователей, и тем не менее полных исчерпывающих ответов на них пока что не дано.
В пору ранней юности Есенину не пришлось испытать благотворного влияния людей, четко различавших пути общественного развития. Поэтому идеи народной борьбы, окрылявшие и одухотворявшие отечественную литературу, не были источником ранней его лирики, из которой в силу многих причин выпали некоторые мотивы, характерные для русской литературы тех лет. Но как поэт Есенин обладал даром удивительно тонко чувствовать и правдиво воспроизводить окружавший его мир. Весь в звуках родного края, Есенин уловил и в прекрасных стихотворениях передал их временную тональность. Его поэзия «пахнет жизнью», и запахи эти пьянят ароматом родных полей.
Верность действительности и близость к традициям национального устного поэтического творчества не раз помогали поэту преодолевать неясность и нечеткость собственных идеалов. Но, ослабленная отсутствием революционной направленности, лирика Есенина уступала в этом громким голосам поэтов «Звезды» и «Правды» и особенно поэзии Д. Бедного. Но и тогда, когда поэт испытывал чуждые влияния упадочнической литературы, процветавшей в салонах северной столицы, его поэзия часто противостояла ее бестелесному, мертвящему пафосу. Не поглотила Есенина и клюевская кондовость, лицемерный монашеский аскетизм, к которому склонял его олонецкий гусляр.
Есенин пришел в литературу, обладая большим талантом и не имея определенных общественных устремлений. Какие же штрихи оставила поэзия раннего Есенина в пестрой и сложной картине русской литературы предреволюционной эпохи?
Самые ранние стихотворения Есенина созданы по впечатлениям детства и обозначены 1910 годом. В последующие годы поэт испытывал различные влияния. В его поэзии, однако, устойчиво звучали мелодии родного края, обретая более или менее определенную форму поэтического выражения. Поэтому будет правомерно выделить дореволюционное творчество поэта в особый период с обозначением ранний, ознаменовавшийся выходом в свет первого сборника стихотворений «Радуница», лирической сюиты «Русь», поэмы «Марфа Посадница», а также повести «Яр» и рассказов «У белой воды», «Бобыль и Дружок». В эти же годы поэтом созданы «Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете троеручице, о черном идолище и Спасе нашем Иисусе Христе» и книга стихотворений «Голубень», опубликованные в 1918 году * .
* ( См. С. Есенин. Радуница. Пг., 1916; его же. Русь. «Северные записки». Пг., 1915, № 7, 8; его же. Марфа Посадница. «Дело народа», 9 апреля 1917 г.; его же. Яр. «Северные записки», февраль — май 1916 г.; его же. У белой воды. «Биржевые ведомости», утр. выпуск 21 августа 1916 г.; его же. Бобыль и Дружок. «Доброе утро», 1917, № 1; его же. Сказание о Евпатии Коловрате. «Голос трудового крестьянства», 23 июня 1918 г.)
Есенин принадлежит к числу тех немногих русских поэтов, чье детство было лишено благотворного влияния высокой культуры, не дышало грозовым воздухом освободительных идей, не знало героических примеров революционной стойкости. Ранние годы будущего поэта прошли вдалеке от активной общественной борьбы, в недрах которой рождалась новая Россия.
Выраставший в глуши мещерских лесов под однообразный шум сосен и берез, под тихий шелест трав и всплески «лонных вод», Есенин не был знаком с музыкой революции, и в его первых стихотворениях не слышатся боевые мелодии, под аккомпанемент которых вступал в жизнь двадцатый век и заявляла о себе революционная литература.
Детские годы поэт провел в семье, далекой от веяний нового времени. Он родился 21 сентября (3 октября) 1895 года и в течение первых 14 лет жил в родном селе Константинове, которое даже в эпоху 1905 года не отличалось активностью революционных настроений.
В родном селе С. Есенин в кепке)
Сын крестьянина, Есенин не испытал тяжелого бремени деревенской жизни, которое веками нес русский земледелец под грустные песни отцов и дедов, сопровождавшие его от колыбели до могилы. В отличие от многих своих сверстников поэт не знал ни изнурительности крестьянского труда, ни его мозолистой поэзии, а нужда и лишения не омрачали его детства.
Поэтому-то Есенину и не была так близка трудовая песня пахаря, прозвучавшая громко еще в поэзии А. Кольцова и озарившая ее той нечастой радостью, которая выпадала на долю крестьянина, когда мать-земля, пропитанная слезами и потом, вознаграждала его за каторжный труд.
Есенин не случайно исключал творчество Н. Некрасова из своей родословной, которую вел от А. Кольцова * . Ранняя поэзия Есенина и не содержит высокой и отчетливо выраженной некрасовской идейности, глубины изображения народной жизни, гражданственности. Она уступала в этом также поэзии А. Кольцова, И. Никитина, а подчас и поэзии И. Сурикова, которые оказали большое влияние на поэта.
* ( См. стихотворение С. Есенина. «О Русь, взмахни крылами. «.)
Есенина многое роднит с этими поэтами, но в ранней лирике ему не удалось развить наиболее сильные мотивы их творчества. Доля бедняка, беспокоившая А. Кольцова, выпала из поэзии С. Есенина, которой не были близки многолетние традиции трудовой русской песни. И тем не менее привлекательность есенинской поэзии — в кровной связи с национальной жизнью, бытом, психологией и духовным миром русского человека.
И хотя поэт был выключен из трудовой деятельности односельчан, он хорошо знал их быт и психологию и воспринял от них глубокую, неиссякаемую любовь к своей Родине, к неувядаемой красоте ее природы, преданиям «старины глубокой». Этим детским впечатлениям и привязанностям, однако, неизменно сопутствовали другие, не менее яркие, но не столь поэтические и привлекательные впечатления. В ранние годы жизни поэт не раз был свидетелем бессмысленных пьяных побоищ, овеянных почему-то романтикой геройства и особенной деревенской удали, слышал грубую брань, наблюдал неоправданную жестокость и сам часто приходил к себе домой «с разбитым носом».
Запас детских впечатлений был у Есенина велик, но они крайне противоречивы. В неокрепшее идейно сознание поэта причудливо вплетался и «мир иной», возникавший из частых и искусных рассказов богомольных странников, а также из церковных книг, смысл которых настойчиво втолковывал внуку его дед. Эти неравноценные впечатления детства, легшие в основу первых стихотворных опытов поэта, и были источником противоречивой неоднородности его ранней поэзии, в которой то звонко и ослепительно ярко переливаются звуки и краски полнокровной жизни, то слышатся гнусавые монашеские голоса.
Позже, вспоминая детство, Есенин неизменно подчеркивает несхожесть первых своих впечатлений. «Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, бог счастья даст». Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого. Дедушка пел мне песни старые, тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне библию и священную историю» * .
* ( Сергей Есенин. Автобиография, 1924. Собр. соч. в пяти томах, т. 5, стр. 15-16. См. там же автобиографию «Сергей Есенин», 1922; «Автобиография», 1923; «О себе», 1925.)
Густой религиозный колорит окружавшей мальчика жизни создавала и церковь, взметнувшая свой крест над просторами окских вод и вросшая в суглинок правобережной крутизны реки прямо перед окнами дома, где родился поэт. А неподалеку монастыри — Пощуповский, Солотчинский, собор в Рязани, а в окрестных селах много церквей и церквушек со своими престольными богослужениями, монахами и монашками, «святыми». По обширной пойме Оки далеко распространялся блеск устремленных ввысь христианских символов — крестов, и она веками гудела от надсадного баса колоколов, звавших в божественное лоно.
А рядом с этой призрачной жизнью, назойливо отравлявшей сознание мальчика, перед его взором открывались чудесные картины родной природы. Село Константиново раскинулось на крутом обрывистом берегу просторной русской реки, которая, освобождаясь от зимней скованности, разливает здесь свои полые воды на многие километры. Летом в пойме расцветает душистый ковер бесконечных лугов, рассеченных множеством ручьев и речушек, стариц и озер. По левую сторону Оки раскинулся могучий мещерский лес, по правую — бесконечная степь — Русь «без конца и без края», о которой слагались песни и сказки.
А песен и сказок немало слышал поэт в детстве. «Нянька — старуха приживальщица, которая ухаживала за мной, рассказывала мне сказки, все те сказки, которые слушают и знают все крестьянские дети» * . В своих автобиографиях поэт резко противопоставляет религиозному влиянию деда и бабки влияние, как он его называет, «уличное». «Уличная же моя жизнь была но похожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил по чужим огородам. Убегал дня на 2-3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах. » ** .
* ( Сергей Есенин. Автобиография, 1924, т. 5, стр. 15-16.)
** ( Сергей Есенин. Автобиография, 1924, т. 5, стр. 16.)
Религиозные представления о небесном рае, божественных садах, аскетизме святых сталкивались в сознании будущего поэта с ощутимой красотой реальной действительности.
Двойственность восприятия мира поэт унаследовал с детства от односельчан и родных, в духовной атмосфере которых формировались его первые представления о жизни. Особенности этого наивного мироощущения, уходившего в глубь веков, но близкого русскому патриархальному крестьянину, Есенин в полной мере раскрыл позже в своем поэтическом трактате «Ключи Марии», а также в письме Р. В. Иванову-Разумнику: «Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. Ведь если мы пишем на русском языке, то мы должны знать, что до наших образов двойного зрения. были образы двойного чувствования: «Мария зажги снега» и «заиграй овражки», «Авдотья подмочи порог». Это образы календарного стиля, которые создал наш великоросс из той двойной жизни, когда он переживал свои дни двояко, церковно и бытом.
Мария — это церковный день святой Марии, а «зажги снега» и «заиграй овражки» — бытовой день, день таяния снега, когда журчат ручьи в овраге» * .
* ( Неотправленное письмо Р. В. Иванову-Разумнику, 1921; V — 148, 149.)
Разумеется, такое понимание мироощущения и традиций поэтического творчества крестьянства возникло у поэта в пору его зрелости, когда он имел не только богатый опыт стихосложения, но и приобрел определенные теоретические познания, позволившие ему различить принципы создания образов «двойного зрения» и «двойного чувствования». И все же Есенин выразил здесь то, что было близко ему с детства и нашло воплощение уже в первой книге стихотворений, поэтика которой также неоднородна и отражает влияния различных поэтических стихий. Часто влияния эти мимолетны, внешне. В таких стихотворениях угадывается преходящая неустойчивая настроенность поэта, и они выпадают из присущей ему уже в ранний период стихотворной структуры, в основе которой лежит народное образотворчество.
Глубинная связь поэта с фольклором не прерывается на протяжении всей его жизни, и ее не колеблют многочисленные литературные влияния. Формы же этой связи неодинаковы и претерпевают сложную эволюцию.
Близость к поэтическим традициям крестьянского фольклора — наиболее устойчивая особенность поэтики раннего Есенина, находящейся в органическом родстве с кругом тем, привлекавших поэта, и особенностями его мироощущения. «Литературные уроки» деда и Спас-Клепиковская школа, которую поэт окончил в 1912 году, не внесли каких-либо изменений в духовный мир, сложившийся в обстановке сельской общины. Недаром, вспоминая школу, поэт писал: «Период учебы не оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковнославянского языка. Это все, что я вынес» (V — 16).
Разумеется, закрытая церковно-учительская школа расширила круг знаний поэта, в том числе и литературных. Она, однако, оберегала своих воспитанников от нецерковного пафоса идей двадцатого, революционного века. Ее задачей было воспитание учеников в духе патриархально-религиозной старины. Дважды в день воспитанники слушали молитвы и проповеди, из них готовили учителей, близких по духу православной церкви.
И, конечно, не случайно школа эта была расположена в укромном местечке, вдалеке от больших дорог, в самой глубине мещерских лесов, в селе, окруженном топями и болотами, которые не отваживались преодолевать даже охотники-смельчаки. И когда будущему поэту разрешалось повидаться с родителями, он пробирался домой кружным путем, на котором его встречали и провожали то угрюмые и безмолвные, а то благочестиво-звонкие башни монастырей и церквей. И на этом пути в шум лесов, шелест трав и загадочный хор птичьих голосов врывался бас меди.
Поэта, однако, больше привлекали песни, сказки, частушки, издавна бытовавшие на его родине, и, преодолевая религиозные влияния, он начал свое творчество с подражания фольклору. «Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам. В бога верил мало. В церковь ходить не любил», — пишет Есенин в своей автобиографии (V — 11), противопоставляя истоки своего творчества религиозным влияниям.
И хотя слова эти принадлежат уже зрелому поэту, которого поругивала критика за приверженность к религии, в них он сказал правду. И позже, неоднократно возвращаясь к истокам своей поэзии, стараясь разобраться в истинных и глубоких влияниях, Есенин много раз повторит эти слова: «Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки» (V — 16). «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их» (V — 23).
Народная психология, быт русской деревни, традиции ее поэтического творчества имели настолько большое влияние на будущего поэта, что позволили ему противостоять настойчивым стремлениям приобщить его к религии. Многие стихотворения, созданные им после окончания церковно-учительской школы (до 1915 года), содержат не только полемику с церковью, но и неприязненное ироническое отношение к ней, и это — лучшее свидетельство глубоких расхождений поэта с надеждами, которые возлагали на него его дед и рязанский архиерей.
В стихотворениях этих лет сугубо земное, житейское восприятие мира и нет в них сколько-нибудь серьезных попыток подражать священным заповедям. Религиозная символика и библейская образность, знакомые поэту с детства, отсутствуют и в его поэзии 1910-1912 годов, а к 1915 году он создает стихотворения, утверждающие красоту земной жизни, прелесть родной природы.
Задорные и голосистые, стихотворения- эти противостоят монашескому смирению и кротости, в них предстает мир многоцветный и радостный. Все в нем живет, дышит, развивается, и одно это многоголосое движение находится в противоречии с характерным для религиозного мироощущения покоем. Поэт замечает и росу на крапиве, и слышит песню соловья, и за рекою — колотушку сонного сторожа. Есенинская зима поет и аукает над чащобой мохнатого леса, метелица у него ковром шелковым стелется, вьюга с ревом бешеным стучит по ставням и злится все сильней, а озябшим и голодным воробышкам под вихри снежные снится красавица весна. Есенинская заря ткет на озере алое полотно, черемуха сыплет снегом, зарница распоясала в пенных струях поясок * .
* ( См. стихотворения: «Вот уж вечер. Роса. «, «Поет зима — аукает. «, «Выткался на озере алый свет зари. «, «Сыплет черемуха снегом. «, «Темна ноченька, не спится. «, «Дымом половодье зализало ил. «.
Примечание: здесь не рассматривается стихотворение «Там, где капустные грядки. «, датированное поэтом 1910 годом. Эту дату не следует считать достоверной: четверостишие написано не ранее 1919 года. В первоначальном варианте оно входило в стихотворение «Хулиган».
В юношеских стихотворениях Есенина уже слышится самостоятельный голос будущего большого поэта, горячо любящего и остро чувствующего родную природу во многих, часто еле уловимых оттенках. Поэтический образ в них прост, прозрачен, лишен вычурности. Метафора еще не обрела силу, но особенности ее уже заметны. Лирическое чувство, однако, неглубоко, лишено больших переживаний, возникает как отклик на звуки и переливы природы.
Из средств выражения используются чаще всего эпитет, несложные сравнения, редко метафора. В каждой строфе обычно нарисована маленькая картинка, возникающая из непосредственных наблюдений и стремления передать вызванные ими ощущения и переживания.
Тихий, лунный вечер, знакомые, звуки и цвета природы вызвали у поэта ощущения радости, а лучи луны, упавшие на вершины берез, зажгли их «как большие свечки», и от них стало тепло, как в родном доме у печки. Кстати, «большие свечки» в этом стихотворении — один из типичных случаев нередкого и самого светского использования поэтом религиозных слов.
Непосредственные наблюдения лежат в основе и другого стихотворения:
Из непосредственных наблюдений возникает в этих стихотворениях и эпитет (сторож сонный, лес мохнатый, воробышки игривые, звон тихий раскованный, свет зари алый, тоска веселая, сосна смолистая, бег зыбистый, струи пенистые, лес зеленый, заря маковая, меха малиновые). И пусть некоторые из этих эпитетов не оригинальны — они взяты из житейского обихода, так же как первые есенинские метафоры: «зима аукает«, «в пряже солнечных дней время выткало нить«, «выткался на озере алый свет зари«, «желтые поводья месяц уронил» и др.
Важно заметить, что в поэтических средствах этого ряда стихотворений нет ориентации на библейскую образность. Они лишены ее так же, как и религиозных мотивов и церковных идей. Метафоры Есенина идут от глубинных традиций народного поэтического творчества и основаны на уподоблении природы обычным житейским, бытовым явлениям (время ткет нить, месяц роняет лучи-поводья, а сам, как неторопливый всадник, движется по ночному небу).
Конкретность и отчетливость поэтического видения выражается самой обиходной бытовой лексикой, словарь прост, в нем редко употребляются книжные и тем более абстрактные слова и выражения. Этим языком пользовались односельчане и земляки. Иногда встречаются религиозные слова, которые поэт использует для выражения своих сугубо светских идей.
В стихотворении «Дымом половодье. » стога сравниваются с церквами, а заунывное пение глухарки с зовом ко всенощной.
И тем не менее нельзя видеть в этом религиозность поэта. Он далек от нее и рисует картину родного края, забытого и заброшенного, залитого половодьем, отрезанного от большого мира, оставленного наедине с унылым желтым месяцем, тусклый свет которого освещает стога, и они, как церкви, у прясел окружают село. Но в отличие от церквей стога безмолвны, и за них глухарка заунывным и невеселым пением зовет ко всенощной в тишину болот.
Видна еще роща, которая «синим мраком кроет голытьбу». Вот и вся неброская, нерадостная картина, созданная поэтом, все, что он увидел в родном затопленном и покрытом синим мраком крае, лишенном радости людей.
И этот мотив сожаления о бедности и обездоленности родного края пройдет через раннее творчество поэта, а способы выражения этого глубоко социального мотива в картинах природы, казалось бы нейтральных к социальным сторонам жизни, будут все больше совершенствоваться.
В стихотворении «Калики» Есенин в резкой, иронической форме выразил свое отношение к религии. Странствующих святош, «поклоняющихся пречистому спасу» и поющих стихи «о сладчайшем Исусе», он называет скоморохами, вкладывая в это слово отрицательный смысл. Их песню о Христе слушают клячи и вторят ей горластые гуси. А убогие святоши ковыляют мимо коров и говорят им свои «страдальные речи», над которыми смеются пастушки.
Нет, это не озорство, как выразился один известный критик, имея в виду стихотворение «Калики», а четкая неприязнь к служителям культа и отрицание тех заповедей, которые усиленно вдалбливали спас-клепиковские церковники своим ученикам.
В стихотворениях «Подражание песне», «Под венком лесной ромашки. «, «Хороша была Танюша. «, «Заиграй, сыграй тальяночка. «, «Матушка в купальницу по лесу ходила. » особенно заметно тяготение поэта к форме и мотивам устного народного творчества. Поэтому в них немало традиционно-фольклорных выражений типа: «лиходейная разлука«, как «коварная свекровь«, «залюбуюсь, загляжусь ли«, в «терем темный«, коса — «душегубка-змея«, «парень синеглазый«.
Используются также фольклорные способы конструкции поэтического образа. «Не кукушки загрустили — плачет Танина родня» (тип образа, хорошо известный поэту из русской народной песни и «Слова о полку Игореве»).
Но не только фольклорной формой пользуется поэт и на ее основе создает свои образы, он делает фольклор предметом своей поэзии, источником тем многих стихотворений, сохраняя социальный смысл народного творчества. «Хороша была Танюша. » — это песня о тяжелой девичьей судьбе, о диких нравах в дореволюционной деревне, о жизни, загубленной во цвете лет («На виске у Тани рана от лихого кистеня»).
Стихотворение «Хороша была Танюша. » может служить примером умелого обращения начинающего поэта с устным народным творчеством. В стихотворении много фольклорных слов, выражений, образов и построено оно на основе народной песни, но в нем чувствуется рука будущего мастера. Здесь к месту и очень удачно использует поэт психологический параллелизм, часто употреблявшийся в народном творчестве для выражения горя, несчастья, грусти. В духе песенной традиции Есенин соединил его с бодрым частушечным напевом. Его Танюша, узнав об измене любимого, хотя и «побледнела, словно саван, схолодела, как роса, душегубкою-змеею развилась ее коса», тем не менее находит в себе силы достойно ответить ему: «Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу, я пришла тебе сказаться: за другого выхожу» (I — 68).
Названные нами выше стихотворения Есенина лишены неплодотворных влияний и в них четко выражена тяга к темам, близким и дорогим русскому читателю.
Ощущая себя «выросшим до зрелости внуком купальской ночи, рожденным с песнями в травяном одеяле», поэт создал немало картин русской природы, но пейзажи — не единственное достоинство его даже самой ранней поэзии.
В нее с самого начала проникали социальные мотивы и темы, которые, повторим, находились в противоречии со стремлениями официальных воспитателей поэта. И в этом — великая сила влияния на него угнетенной, неграмотной, трудовой и нищей рязанской деревни, не раз поднимавшейся с кольями, вилами и косами против своих угнетателей.
Слишком долгое время критика наша усердно искала источники противоречивости зрелого Есенина в религиозности, смиренности, кротости, богомольности деревни, в дореволюционных условиях которой он вырастал, безмерно выпячивалась также фигура богомольного деда. Между тем даже в ранних стихотворениях поэта нет ни смиренности, ни кротости, ни богомольности. В них громко звучит «хмельная радость», омрачаемая сознанием заброшенности и оторванности от большого мира.
Разумеется, и в эти годы (1910-1914) поэт испытал различные литературные влияния, и о них будет сказано, но стихи, созданные по живым впечатлениям детства, не дают права на отождествление Есенина этих лет с Есениным петербургским.
Этого не учла критика. Даже Воронский, прекрасно знавший творчество и жизнь поэта, не смог расчленить «Радуницу», и в своей отрицательной ее оценке выделил стихотворения, созданные уже после того, как поэт подышал воздухом столичной реакционной философии. «Русь Есенина в первых книгах его стихов — смиренная, дремотная, дремучая, застойная, кроткая, — Русь богомолок, колокольного звона, монастырей, иконная, канонная, китежная. По силе сказанного его поэтические произведения рассматриваемого периода являются художественно-реакционными». Воронский объясняет такое развитие Есенина влиянием «разлагающей» и «размягчающей дедовской прививки». «И «Радуница», и «Голубень», и «Трирядница», и иные многие стихи поэта окрашены и пропитаны церковным, религиозным духом» * .
* ( А. Воронский. Сергей Есенин. Литературный портрет. В кн.: А. Воронский. Литературно-критические статьи. М., «Советский писатель», 1963, стр. 244, 245, 247, 248.)
В более поздней статье «Об отошедшем» Воронский смягчил и кое в чем пересмотрел свои оценки есенинского творчества, но ранний цикл стихотворений он оценил по-прежнему неверно: «Первый цикл его стихов был деревенски-идиллический, окрашенный церковностью» * .
* ( А. Воронский. Об отошедшем. В кн.: Сергей Есенин. Собр. стихотворений, т. I. М.-Л., ГИЗ, 1926, стр. XVIII.)
В дореволюционной рязанской деревне были не одни только идиллии. В ней разгоралось пламя освободительной борьбы, и крестьянское движение не в шутку всполошило именитую светскую и духовную знать.
Рязанский край в царской России действительно был заброшенным, самым нищим среди нищих. Это был мужицкий край. Крестьяне составляли здесь 94% всего населения губернии * .
* ( Все цифровые данные взяты нами из работы В. И. Попова «Крестьянское движение в Рязанской губернии в революции 1905-1907 гг.». «Исторические записки», 1954, № 49, стр. 136-164. Далее цифровые данные даются без ссылки на эту работу.)
Но в этом мужицком краю на долю крестьян приходилась лишь половина лучших земель губернии, другая ее половина находилась в частнособственническом владении, Крестьянский надел на душу в Рязанской губернии был ниже, чем в соседних с ней губерниях * , и равнялся в среднем одной десятине, а в ряде деревень он был еще ниже. Цена на аренду земли стремительно росла, налоги тоже. В 1904 году одни лишь выкупные платежи составили 50% всех налогов на население губернии.
* ( Московской, Нижегородской, Калужской, Орловской.)
Грамотность была крайне низкой, медицинское обслуживание почти отсутствовало * . Не случайно поэтому показатели обнищания крестьян губернии неуклонно росли и были выше общероссийских. Бедняков — 63,6 против 59,5%, середняков — 17,7 против 22%. Крестьянам Рязанской губернии не хватало в 1905 году двух миллионов пудов зерна для засева полей. От голода и нищеты они уходили на заработки в города и переселялись в другие районы страны или попадали в кабалу кулаков и помещиков.
* ( 9 врачей и 11 фельдшеров на 100000 населения.)
Таким был есенинский край в канун первой русской революции, которая развернулась в нем с особой силой. В 1905-1907 годах в Рязанской губернии зарегистрировано 515 крестьянских выступлений. И хотя они были разрозненными и изолированными, подавленными силой власти и оружия, они не отличались кротостью и смирением. Крестьяне жгли помещичьи имения, отбирали скот, хлеб, рубили леса. Было и открытое сопротивление властям, были и расстрелы восставших, и все это создавало в Рязанской губернии атмосферу, далекую от кондовости и монастырщины.
Не учитывать революционные настроения крестьян, как это делают иные критики, нельзя. Они ведь сыграли немалую роль в пробуждении сознания многих крестьянских писателей.
Но революционная волна лишь вскользь захватила северные уезды губернии, в одном из которых родился и жил поэт, а в них и помещиков было меньше, и наделы крестьян выше, и классовые противоречия не так остры. Потому-то из 515 выступлений крестьян Рязанской губернии лишь 8,8% падает на северные уезды.
Острота революционной борьбы ослаблялась в сознании будущего поэта еще и тем, что его творчество начиналось в годы столыпинщины и общего спада революционной деятельности, идейного разброда в рядах творческой интеллигенции, веховщины и богоискательства, в годы, когда процветали декадентские моды. «Реакция проявлялась во всех областях общественной жизни, в науке, философии, искусстве. Царизм вел бешеную шовинистическую агитацию. Активно выступала воинствующая поповщина. Среди интеллигенции широкое распространение получили контрреволюционные настроения, ренегатские идеи, увлечение мистикой и религией. Стихла на время острая борьба в деревне» * .
* ( «История КПСС». М., Госполитиздат, 1960, стр. 126.)
Условия были вполне подходящие для осуществления идей хозяев Спас-Клепиковской церковно-учительской школы, которую, скажем кстати, идеализируют отдельные наши критики, не считаясь с мнением о ней зрелого поэта. Она же делала все, чтобы искоренить память о революции в сознании своих учеников. Не случайно поэтому ни Есенин, ни его учителя и одноклассники в своих воспоминаниях и письмах, относящихся к годам обучения в школе, ничего не говорили о впечатлениях от длительной и тяжелой борьбы рязанского крестьянства в эпоху 1905-1907 годов.
Окресности Спас-Клепиков. Лесное озеро
Спас-Клепиковская церковно-учительская школа
А воспоминания эти были живы и в среде церковников, и в среде интеллигенции. О жертвах революции 1905 года поэт упоминает лишь в 1913 году в письме Грише Панфилову, в котором он дает еще одну справедливую характеристику спас-клепиковской духовной атмосферы: «Я не знаю, что ты там засел в Клепиках, пора бы и вырваться на волю. Ужели тебя не гнетет та удушливая атмосфера? Здесь хоть поговорить с кем можно и послушать есть чего» (V — 106). И это не воспоминания, а живые впечатления только что окончившего школу поэта.
В дружеском школьном кружке Гриши Панфилова сильно увлекались не только ранним Горьким, но и Надсоном и толстовством. К философии Толстого большой интерес был и у Есенина. Справедливость этих слов подтверждают письма, стихи, автобиографии самого поэта. Стихотворения клепиковского периода не отличаются жизнеутверждающим пафосом * . Лишенные глубоких чувств и переживаний они и в художественном и в идейном отношении еще очень слабы. Они, однако, характеризуют литературную настроенность учеников Спас-Клепиковской школы, которые их с увлечением слушали, а подражательное и слабое стихотворение «Звезды» получило даже восторженную оценку учителя словесности Е. М. Хитрова ** .
* ( См. стихотворения: «Звезды», «Воспоминание», «Моя жизнь», «Что прошло — не вернуть», «Ночь», «Восход солнца», «К покойнику», «Капли», «Поэт».)
** ( См. примечание к этому стихотворению (I — 335).)
В большинстве стихотворений 1910-1912 годов звучат не чуждые поэту в ту пору пессимистические мотивы, заимствованные, в частности, у Надсона вместе с арсеналом поэтических средств:
В арсенале этих средств такие лишенные есенинской конкретности и образности штампы: «жизнь — страданья удел», «незавидная доля», «душа, изнывающая от тоски и горя», «даль туманная», «вздохи и слезы», «волшебные, сладкие грезы», «жизнь — обман». Даже природа становится бледной, краски ее тускнеют, оттенки пропадают: «Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит и разрушит волшебные, сладкие грезы»; «Капли жемчужные, капли прекрасные, как хороши вы в лучах золотых»; «Звездочки ясные, звезды высокие». Ни «жемчужные капли», ни «зорька красная», ни «небо темно-голубое» не идут в сравнение с образами природы, созданными поэтом позже:
В 1910-1912 годах Есенину не удалось создать сколько-нибудь значительных произведений. В его творчестве этих лет много покорности судьбе, толстовского непротивленчества, сетований на «судьбу-злодейку». Оно по-ученически подражательно.
Влияний этих могло и не быть, если бы рядом с юным поэтом был чуткий и понимающий поэзию учитель. Но такого не оказалось. Глубинных родников таланта Есенина никто не замечал. Слишком долго поэт развивался в одиночку, ощупью пробивая себе дорогу в поэзию, пока не встретился с Блоком, который оценил талант Есенина и помог ему как поэту. Но это было уже в 1915 году.
Что же касается Спас-Клепиковской школы, то для нее явилось неожиданностью, когда спустя два-три года после ее окончания имя Есенина стало достоянием общероссийской литературы. Придя в школу с талантом и живою душою поэта, Есенин ушел из нее с «крепким знанием церковнославянского языка» и с не менее крепко засевшими в сознании толстовскими идеями, которые позже пришлось ему преодолевать.
Лучшие стихотворения Есенина 1910-1914 годов привлекают свежестью и сочностью картин природы, нарисованных смело, размашисто. Читателя пленяет обнаженность и задушевная искренность выражаемых поэтом чувств.
В эти годы, однако, Есенин имеет смутные представления об истинном назначении поэзии. Его творчество камерно, не одухотворено высокими идеями века, лирическое чувствование неустойчиво, ограничено кругом интимных тем и переживаний, эстетический идеал не четок, раздумья противоречивы. Стихотворения этих лет неравноценны. Они то полны энергии и оптимизма («Вот уж вечер. Роса. «, «Поет зима — аукает. «, «Выткался на озере. «, «Сыплет черемуха снегом. «, «Темна ноченька, не спится. «), то горестные и грустные, навеянные мыслями о скоротечности жизни («Подражанье песне», «Под венком лесной ромашки. «, «Хороша была Танюша. «, «Воспоминание», «К покойнику»).
Неясность общественных позиций со всей отчетливостью выражена и в стихотворениях Есенина о поэте. В первом из них «Он бледен. Мыслит страшный путь. » (1910-1911) тема общественной роли искусства совсем отсутствует, а судьба поэта представляется Есенину безрадостной, одинокой, трагической.
В другом стихотворении «Тот поэт, врагов кто губит» (1912) Есенин так понимает общественное назначение художника:
В сравнении с первым стихотворением тема искусства взята здесь глубже, но абстрактность суждений не преодолена, критерии весьма общи и неопределенны, и это характеризует умонастроение Есенина тех лет. На мучивший его вопрос о роли искусства в жизни народа в эти годы он так и не смог найти ясного и конкретного ответа.
В письме Грише Панфилову из Москвы он просит друга помочь ему в этом: «Хочу писать «Пророка», в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу. Если в твоей душе хранятся еще помимо какие мысли, то прошу тебя дай мне их, как для необходимого материала. Укажи, каким путем идти, чтобы не зачернить себя в этом греховном сонме. Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему «Поэту». Пусть меня ждут унижения, презрения и ссылки. Я буду тверд, как будет мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, за святую правду с сознанием благородного подвига» (V — 92).
«Клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу» — все это скорее романтика, чем ясное осознание цели. И хотя Есенин просит «благословить его на благородный труд» и не хочет «зачернить себя в этом греховном сонме», готов переносить «унижения, презрения и ссылки», представления его о поэте и поэзии пока что смутны и далеки от идей, прочно утвердившихся в передовой русской литературе.
Разумеется, речь идет о юноше, только что оставившем школьную скамью, условиями жизни и школой изолированном от прогрессивного движения своего времени, пробивавшемся в литературу ощупью, в одиночку, лишенном идейной поддержки. Воспитание в клепиковской «школе в духе христианской морали мало содействовало правильному решению таких сложных и острых проблем. В рассуждениях о назначении поэта Есенин превзошел своих учителей. Но переоценивать его юношеские представления, как это иногда делается в критической литературе, нет оснований.
Неустойчивость и неопределенность мировоззрения Есенина видны и из других писем своему школьному другу: «Я изменился во взглядах, но убеждения те же и еще глубже засели в глубине души. По личным убеждениям я бросил есть мясо и рыбу, прихотливые вещи, как-то: вроде шоколада, какао, кофе не употребляю и табак не курю. На людей я стал смотреть тоже иначе. Гений для меня — человек слова и дела, как Христос. Все остальные, кроме Будды, представляют не что иное, как блудники, попавшие в пучину разврата» (V — 92, 1913 год).
В этой смеси религий заметно родство с идеалом поэта, «готового страдать за людей» и «любить их как братьев».
Налет толстовства, христианства, буддизма соседствует в письме с сообщением об агитации среди рабочих: «Недавно я устраивал агитацию среди рабочих письмами. Я распространял среди них ежемесячный журнал «Огни» с демократическим направлением» (V — 93). Едва ли стоит придавать большое значение общественной деятельности и агитации поэта в этот период. Тем более, что и его литературные симпатии крайне сомнительны: «Разумеется, я имею симпатии и к таковым (после Христа и Будды. — П. Ю.) людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Златоврацкий и др. Но как Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Некрасов — я не признаю. Тебе, конечно, известны цинизм А. Пушкина, грубость и невежество М. Лермонтова, ложь и хитрость Кольцова, лицемерие, азарт и карты и притеснение дворовых Н. Некрасова, Гоголь — это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский в своем знаменитом письме. А про Некрасова можешь даже судить по стихотворению Никитина «Поэту обличителю» (V — 92, 93).
Позже Есенин резко изменит мнение о великих русских писателях, назовет Гоголя «любимым» (V — 9), оценит по достоинству Лермонтова, Кольцова, Пушкина, Достоевского, Л. Толстого. В ранние же годы его представления о них неустойчивы, а философские и мировоззренческие взгляды эклектичны, смутны, лишены активной гражданственности.
К 1913 году относится увлечение Есенина религией: «. в настоящее время я читаю евангелие и нахожу очень много для меня нового. Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему. Жизнь. Я не могу понять ее назначения, и ведь Христос тоже не открыл цель жизни» (V — 95). Поэт верит не только в «светлый ум и благородную душу Христа», но и в загробную жизнь. Обращаясь к Грише, он замечает: «Ты сам когда-то говорил: «А все-таки я думаю, что после смерти есть жизнь другая». Да, — признается Есенин, — я тоже думаю, но зачем она жизнь?» (V — 95). Приведенные Есениным слова друга характеризуют и мировоззрение Гриши Панфилова, также переоцениваемого часто в критической литературе, утверждающей безоговорочно демократичность настроений юных друзей.
Несомненно, в школьном кружке Панфилова обсуждались идеи служения обществу, и они были близки Есенину, но это скорее идеи христианского служения, ожившие с новой силой в сознании поэта в первый год его пребывания в Москве. «Да, Гриша, — внушает он Панфилову, — люби и жалей людей, и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников. Ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей» (V — 100).
Вместо декларированного в замысле «Пророка» обличения «увязшей в пороках толпы» здесь провозглашается лечение общественных болезней лаской, совсем уже в духе толстовского непротивления злу насилием. Таковы итоги воспитания Спас-Клепиковской церковно-учительской школы. Таким прибыл Есенин в Москву летом 1912 года.
Поэта привело в город желание найти пути в большую литературу и попробовать свои силы в поэзии. Каких-либо связей в писательских кругах он не имел, имя его в печати не было известно. Оторванный от родной деревенской стихии, Есенин оказался в первые месяцы жизни в чужом ему городе в обстановке духовной изоляции. Начались распри с отцом, а за ними наступил разрыв, пришлось оставить работу в конторе купца Крылова. Жизнь складывалась трудно и совсем не так, как хотелось юноше. Лишившись поддержки отца, поэт оказался в еще более тяжелом положении. Вместо литературных занятий приходилось каждодневно думать о куске хлеба.
Собственные впечатления поэта о пребывании в Москве также не совпадают с оценкой их в некоторых критических работах * , и поэтому в них нужно разобраться. «. Глядишь на жизнь и думаешь: живешь или нет? Уж очень она протекает-то слишком однообразно, и что новый день, то положение становится невыносимее, потому что все старое становится противным, жаждешь нового, лучшего, чистого, а это старое-то слишком пошло» (V — 89, 1912 год); «Черт знает, что такое. В конторе жизнь становится невыносимой. Что делать? Пишу письмо, а руки дрожат от волнения. Еще никогда я не испытывал таких угнетающих мук» (V — 94, 1913 год); «Мрачные тучи сгустились над моей головой, кругом неправда и обман. Разбиты сладостные грезы, и все унес промчавшийся вихорь в своем кошмарном круговороте. Наконец и приходится сказать, что жизнь это действительно «пустая и глупая шутка» (I — 104, 1913 год); «. Со средствами приходится скандалить. Не знаю, как буду держаться, а силы так мало» (V — 106, 1913 год); «Все сформировавшиеся надежды рухнули, мрак окутал и прошлое и настоящее» (V — 106, 1913 год).
* ( См. Ю. Прокушев. Юность Есенина.)
К ряду нерадостных настроений поэта, выражаемых в письмах другу, следует добавить и нелестные оценки людей, с которыми ему приходилось встречаться в городе. «Москва — это бездушный город, и все, кто рвется к солнцу и свету, большей частью бегут от нее. «; «Люди здесь большей частью волки из корысти. За грош они рады продать родного брата» (V — 108, 1913 год); «Изнуренный сажусь за письмо. Последнее время я тоже свалился с ног. У меня сильно кровь шла носом» (V — 109, 1914 год); «Что-то грустно, Гриша. Тяжело. Один я, один кругом, один и некому мне открыть свою душу, а люди так мелки и дики» (V — 110, 1914 год).
Таковы собственные впечатления Есенина о пребывании в Москве. Душевная неустроенность и неудовлетворенность находят выражение и в ряде стихотворений этих трудных для поэта дней. В них нет ни буйной жизнерадостности, ни колоритных картин родной природы, а мир представляется Есенину мрачным и скучным, лишенным ярких красок:
«Времени скучные звуки» слышатся и в других стихотворениях, посылаемых Грише Панфилову. Слабые художественно и не предназначенные для печати стихотворения эти отчетливо выражают внутренний мир поэта, не нашедшего пока что в городе единомышленников и охотно обращающегося к грустным мотивам поэзии Надсона, о покупке сочинений которого он сообщает другу * .
* ( См. письма из Константинова, февраль — март 1913 г. (V — 98).)
Подавленное настроение Есенина неверно было бы объяснять глубокими раздумьями над судьбами Родины, которые волновали в то время русскую интеллигенцию, болезненно пережившую поражение революции 1905-1907 годов и вступавшую в полосу нового подъема освободительного движения. Такое объяснение было бы неверным, если даже учесть связи Есенина с революционно настроенными рабочими типографии «Товарищества И. Д. Сытина», где некоторое время поэт работал в корректорской.
С. Есенин среди работников типографии ‘Товарищества И. Д. Сытина’
Духовно Есенин не был подготовлен для активной революционной работы, и об этом красноречиво говорят рассмотренные нами письма Панфилову. В некоторых из них поэт сообщает об аресте рабочих, о своем участии в рабочем движении, о слежке за ним со стороны полиции и об обыске, произведенном ею в его квартире. И хотя эти факты биографии Есенина соответствуют (в известной мере) действительности, преувеличивать их было бы рискованно. В одном из писем (1913) он пишет: «Во-первых, я зарегистрирован в числе всех профессионалистов, во-вторых, у меня был обыск, но все пока кончилось благополучно» (V — 108).
На это место письма особенно часто ссылаются в последнее время исследователи, чтобы подчеркнуть причастность поэта к революционному движению. И действительно, в бытность свою корректором типографии Есенин участвовал в рабочих собраниях, распространял журнал «Огни», имевший демократическую направленность. Считать же это сознательной революционной деятельностью, идущей от внутренних побуждений, нельзя. И об этом лучше всего сказано в самом письме, которое цитируется обычно в первой своей части, а между тем его конец красноречив, и нам приходится еще раз его выписать: «Читал ли ты роман Ропшина «То, чего не было» из эпохи 5 годов. Очень замечательная вещь. Вот где наяву необузданное мальчишество революционеров 5 года. Да, Гриша, все-таки они отодвинули свободу лет на 20 назад. Но бис с ними, пусть им себе галушки с маком кушают на энтом свити» (V — 108, 109).
Не будем останавливаться на всех оттенках высказывания Есенина, подчеркнем только, что клеветнический роман Б. Савинкова (Ропшина) пришелся ему, считавшему себя «зарегистрированным профессионалистом», по душе, а революционный подвиг борцов 1905-1907 годов назван им «необузданным мальчишеством». Совместить это с сознательной революционной деятельностью невозможно.
С 1962 года в литературу о Есенине вошел новый документ — «Письмо пятидесяти» * , а также были обнаружены донесения сыщиков, которые вели слежку за Есениным в ноябре 1913 года. Материалы эти с достаточной полнотой представлены в книге Ю. Прокушева ** , и вновь цитировать их нет необходимости. Отметим только, что письмо «пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого района» резко осуждало раскольническую деятельность ликвидаторов и антиленинскую позицию газеты «Луч».
* ( См. сообщение Л. Шалгиновой «Письмо пятидесяти и Есенин». «Новый мир», 1962, № 6, стр. 278-279.)
** ( См. Ю. Прокушев. Юность Есенина, стр. 137, 138, 143-156.)
Среди пятидесяти подписей под письмом стоит подпись Есенина, что и дало основание полиции, в руки которой попал документ, установить за ним тщательную слежку. В донесениях полицейских нет, однако, ничего, что бы подтверждало сознательное и активное участие поэта в революционном движении, не обнаружено таких материалов и при обыске. Очевидно, подпись Есенина под документом также нельзя считать проявлением сознательной революционной деятельности. Все его помыслы в Москве были направлены на поиски путей в литературу. И в этом главном стремлении он не получал ожидаемой поддержки и вскоре оставил работу в типографии. Так, столкнувшись впервые с рабочими города, Есенин не стал ни певцом революционной борьбы, ни сознательным революционером. Связи эти не оставили глубоких следов в его ранней поэзии. Стихотворения «У могилы» и «Кузнец», напоминавшие (да и то глухо) об этой связи, поэт не включил в первый свой сборник «Радуница», никогда о них не вспоминал и не включал в последующие издания своих произведений * . Заметим также, что ни в одной из автобиографий поэт не вспоминал о своем участии в революционном движении.
* ( Стихотворение «Кузнец» впервые было опубликовано в газете «Путь Правды» 15 мая 1914 г.)
Это вовсе не означает, что кратковременная работа в коллективе сытинцев, ведших организованную борьбу за свои права, не оказала на поэта совсем никакого влияния и не была для него полезной. Подышав воздухом типографии, Есенин все больше начинает размышлять о жизни, стремится постичь ее смысл, как-то самоопределиться в ней, осознать ее сложность и неустроенность. В творчестве Есенина этих лет усиливаются демократические тенденции и возникают новые темы, расширявшие диапазон его поэзии. В поэме «Марфа Посадница» содержится осуждение деспотизма царя Ивана III и прославление новогородской вольницы. В стихотворениях «Узоры», «Молитва матери», «Богатырский посвист» Есенин пишет об империалистической войне.
Под влиянием и с помощью сытинцев он поступает в народный университет им. А. Л. Шанявского, завязывает связи с суриковцами и становится членом этого кружка. Все это помогает ему расширить и углубить знания родной литературы, ближе познать новую для него жизнь города. Но все это не открывает перед ним, считавшим себя сложившимся поэтом, широкой дороги в печать. И хотя в кружке суриковцев поэт обретает близкую ему литературную среду и лично знакомится с рядом поэтов, издательские его планы не продвигаются, и он решает покинуть Москву и попытать счастья в столице.
Еще в конце 1913 года Есенин писал Панфилову: «Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер. Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала. Положительно ни одного. Есть, но которые только годны на помойку, вроде «Вокруг света», «Огонек» (V — 108).
А. Р. Изряднова, близко знавшая Есенина в те годы, в своих воспоминаниях замечает: «Настроение было у него угнетенное, он поэт, и никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать» * .
* ( Ю. Прокушев. Юность Есенина, стр. 115.)
Лишь в последний год пребывания в Москве Есенин смог опубликовать несколько своих стихотворений в журналах «Мирок», «Проталинка» и в газете «Новь» * . Разумеется, детские журналы публиковали стихотворения с учетом возраста и интересов своих читателей, отбор произведений для них был ограничен. Не имея возможности напечатать всего, что было создано к этому времени, Есенин сдал в журнал «Мирок» свои первые зарисовки картин русской природы и сказку «Сиротка». По ним нельзя было судить о содержании творчества вступавшего в литературу поэта, но уже в них читатель мог заметить свежесть его ощущений природы, тонкость наблюдений, полноту чувств, простоту и яркость их поэтического выражения. Конкретность и прозрачность образов особенно наглядна в таком, например, стихотворении:
* ( «Мирок» — ежемесячный иллюстрированный журнал для семьи и начальной школы. В 1914 г. в нем были напечатаны стихотворения С. Есенина «Береза», «Пороша», «Село», «Пасхальный благовест», «С добрым утром», «Сиротка», «Поет зима — аукает». «Проталинка» — журнал для детей среднего возраста. В 1914 г. в № 10 С. Есенин опубликовал в нем стихотворение «Молитва матери». В газете «Новь» 23 ноября 1914 г. опубликовано стихотворение «Богатырский посвист». В интересном сообщении С. Стриевской «Не Есенин ли это?» («Литературная Россия» от 14/Х 1966 г., стр. 11) высказано предположение, что стихотворения Есенина «В эту ночь» и «Уйти бы» были опубликованы в 1913 г. в № 5 московской легальной большевистской газеты «Наш путь». С. Стриевская, однако, сомневается в авторстве Есенина, которое пока что не доказано.)
В этой маленькой зарисовке покоряет не только тонкость наблюдений, но и большое поэтическое мастерство художника, которому известны и звукопись, и гармония гласных. Даже в русской поэзии, богатой пейзажами, мало таких жемчужин, и это яркое свидетельство упорного совершенствования Есениным литературной техники в годы пребывания в Москве.
Отсутствие глубоких социальных мотивов — другая особенность стихотворений, опубликованных в 1914 году, что нельзя объяснить одним только содержанием и направлением журналов, в которых печатался тогда поэт.
В стихотворениях «Молитва матери» и «Богатырский посвист» Есенин коснулся острой в то время темы — отношения к империалистической войне, несшей русскому народу неисчислимые беды. Идейно-художественное решение темы не отличается ни политической зрелостью, ни твердостью общественных позиций автора. Поэт так раскрывает чувства матери, сын которой «в краю далеком родину спасает»:
В этих строках много слез, и при первом чтении стихотворения создается впечатление неутешного горя матери, потерявшей сына в бессмысленной войне. Авторская мысль, однако, другая. Он заставляет старушку нарисовать в своем воображении поле боя, «где лежит убитым сын ее героем» с вражеским знаменем в руках. И когда такие грезы расцветают в ее усталых глазах, она застывает от счастья с горем. Как матери, ей жаль погибшего сына, но она счастлива, что он пал смертью героя за родину. «Молитва матери» вскрывает неясность отношения поэта к империалистической войне, стихотворение лишено какого-либо ее осуждения. То же относится и к стихотворению «Богатырский посвист», в котором поэт в былинном стиле рисует облик русского крестьянина, без сожаления и горя отправляющегося на врага и спасающего Россию:
Такое изображение империалистической войны не только далеко от реализма, но и близко к ложному, славянофильскому патриотизму и явилось результатом неясных и неустойчивых общественных позиций автора в этом остром вопросе.
Стихи Есенина публиковались в Москве и в других изданиях. В 1915 году их напечатали журналы «Млечный путь», «Друг народа», «Парус», «Доброе утро» * . В стихотворениях «Узоры», «Бельгия» поэт вновь обращается к теме империалистической войны, но ее художественное решение остается прежним. В «Узорах» Есенин повторил «Молитву матери», а в «Бельгии» слышится призыв воевать до победного конца.
* ( «Млечный путь», 1915, № 2, февраль — «Зашумели над затоном тростники»; № 3, март — «Выткался на озере алый цвет зари». «Друг народа», 1915, № 1, январь — «Узоры», «Парус»; № 2 — «О дитя, я долго плакал над судьбой твоей». «Доброе утро», 1915, № 5, 6, октябрь — «Бабушкины сказки». Кроме этого, в журнале «Мирок» были опубликованы стихотворения: «Что это такое?», «Бельгия», «Черемуха».)
Обращаясь к Бельгии и высоко ценя ее «могучий, свободный дух и храбрость», поэт призывает ее покарать врага. Позже Есенин пересмотрит свое отношение к войне, но первые его отклики о ней не дают оснований видеть в нем противника бойни, затеянной правящей верхушкой.
Не отличается определенностью общественных идеалов и стихотворение Есенина «Кузнец», опубликованное в 1914 году в газете «Путь правды». Нарисовав картину душной угрюмой кузницы с тяжелым и несносным жаром, где «от визга и от шума в голове стоит угар», поэт советует кузнецу «лететь мечтой игривой в заоблачную даль»:
Счастливая пашня за порогом хмурых дней, вдали за черной тучей, в заоблачной дали — в этом весь смысл стихотворения. Что же такое заоблачная даль, в которую надо стремиться «от горя и невзгод, постыдного страха и робости постылой»? Поэт, к сожалению, не дает ответа па возникающий вопрос. Его заоблачная даль неопределенна. Однако образ кузнецов, «вздувающих горны и кующих смело, пока железо горячо», был знаком читателям «Правды», и он мог вызвать определенные ассоциации при чтении стихотворения «Кузнец». Этим можно объяснить публикацию его в газете.
Несмотря на то что Есенин был близок к революционно настроенному рабочему коллективу, он не усвоил в Москве революционной идеологии и не выработал системы взглядов, отличных от тех, с которыми он прибыл в Москву, хотя круг его представлений о жизни расширился.
Поэт по натуре и способу восприятия мира, Есенин оказался глух к впечатлениям городской жизни, и она не оставила в его сознании ни одного яркого образа. В его душе жили картины сельского быта, звуки и краски природы, топи да болота, гомон косарей, пороши, разливы, цветенье трав.
Со всем этим и явился он в Петроград к А. Блоку в марте 1915 года * .
* ( Дата первой встречи Есенина с Блоком определяется по записи Блока: «Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет, стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык, приходил ко мне 9 марта 1915 года». А. Блок. Записные книжки (1901-1920). М., «Художественная литература», 1965, стр. 567.)
Есенин хотел услышать оценку своего творчества из уст большого поэта, с которым ему не пришлось встретиться в Москве. А. Блок не только высоко оценил стихи Есенина, но и помог ему установить прочные литературные связи.
При содействии А. Блока и С. Городецкого Есенин получил широкие возможности печатать свои стихотворения в наиболее известных тогда столичных журналах. Если в течение трех московских лет Есенин с большим трудом опубликовал несколько своих стихотворений, то уже в первые месяцы жизни в Петрограде их приняли «Ежемесячный журнал», газета «Биржевые ведомости», журнал «Русская мысль», «Голос жизни», «Огонек», «Новый журнал для всех», «Северные записки», «Нива» (приложение к журналу), «Весь мир». Имя поэта становилось общеизвестным, его поэзия обретала самостоятельную жизнь.
Конечно, не будь у Есенина яркого таланта, никакие рекомендации ему не помогли бы, и он не имел бы столь бурного успеха в литературных кругах столицы. Но наличие бесспорного таланта — это лишь одна и, пожалуй, не главная причина, которой можно объяснить внимание, оказанное поэту. Социальная основа его поэзии и лишенная политической остроты направленность таланта вполне устраивали тогда тех, кто восторженно принял его в свои объятия и видел в нем представителя народных низов, певца благочестивой мужицкой Руси.
Поэт обретал литературное имя не в тех общественных слоях русской интеллигенции, которые выражали истинные интересы любимой им России. Поэтому его природный поэтический дар, не подкрепленный определенностью общественных идеалов, получил одностороннее развитие, а его поэзия еще долго плутала по извилистым тропинкам, вдалеке от столбовой дороги века. И этот главный итог трехлетней жизни Есенина в Петрограде (1915-1917) лучше всего подтверждают его произведения, созданные им в те годы.
С. Есенин и М. Мурашов (1915)
Но прежде чем обратиться к ним, необходимо хотя бы кратко охарактеризовать другие важные вопросы.
источник