Институтом называется совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной потребности.
Под институтами публичную систему правил, которые определяют должность и положение с соответствующими правами и обязанностями, властью и неприкосновенностью, и тому подобное.
Также под институтами Веблен понимал:
- — привычные способы реагирования на стимулы;
- — структура производственного или экономического механизма;
- — принятая в настоящее время система общественной жизни.
В настоящее время в рамках современного институционализма наиболее распространенной является трактовка институтов Дугласа Норта:
Институты — это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми.
Этапы становления институциональной экономики. «Старый» институционализм, как экономическое течение, возник на рубеже 19-20 веков Для институционализма характерно отстаивание идеи социального контроля и вмешательства общества, главным образом государства, в экономические процессы. Это было наследием исторической школы, представители которой не только отрицали существование устойчивых детерминированных связей, и законов в экономике, но и являлись сторонниками идеи, что благосостояние общества может быть достигнуто на основе жесткого государственного регулирования экономики националистического толка.
Виднейшими представителями «Старого институционализма» являются: Торстейн Веблен, Джон Коммонс, Уэсли Митчелл, Джон Гэлбрейт. Несмотря на значительный круг проблем, охватываемый в работах указанных экономистов, им не удалось образовать собственную единую исследовательскую программу. Как отмечал Коуз, работы американских институционалистов ни к чему не привели, поскольку в них не было теории для организации массы описательного материала.
Современный неоинституционализм берёт свое начало с пионерных работ Рональда Коуза «Природа фирмы», «Проблема социальных издержек».
Атаке неоинституционалистов в первую очередь подверглись положения неоклассики, составляющие её защитное ядро.
- 1. Во-первых, подверглась критике предпосылка, что обмен происходит без издержек. Критику этого положения можно найти в первых работах Коуза. Хотя необходимо отметить, что о возможности существования издержек обмена и об их влиянии на решения обменивающихся субъектов писал ещё Менгер в своих «Основаниях политической экономии».
- 2. Во-вторых, признавая существование трансакционных издержек, возникает необходимость в пересмотре тезиса о доступности информации. Признание тезиса о неполноте и несовершенности информации открывает новые перспективы для экономического анализа, например, в исследовании контрактов.
- 3. В-третьих, подвергся пересмотру тезис о нейтральности распределения и спецификации прав собственности. Исследования в этом направлении послужили отправным пунктом для развития таких направлений институционализма, как теория прав собственности и экономика организаций. В рамках этих направлений субъекты экономической деятельности, хозяйственные организации, перестали рассматриваться как «чёрные ящики».
В рамках современного неоинституционализма также осуществляются попытки изменения, или даже модификации, элементов жёсткого ядра неоклассики. В первую очередь это предпосылка неоклассики о рациональном выборе. В институциональной экономике классическая рациональность модифицируется с принятием допущений об ограниченной рациональности и оппортунистическом поведении.
Некоторые представители современного институционализма идут ещё дальше и подвергают сомнению саму предпосылку о максимизирующем полезность поведении экономического человека, предлагая его замену принципом удовлетворительности Новую институциональную экономику, представителями которой можно считать О. Уильямсона и Г. Саймона. Таким образом, различия между неоинституционализмом и новой институциональной экономикой можно провести в зависимости от того, какие предпосылки подвергаются замене или модификации в их рамках — «жесткого ядра» или «защитного пояса».
Основными представителями неоинституционализма являются: Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт, А. Алчиан, Саймон Г., Л. Тевено, Менар К., Бьюкенен Дж., Олсон М., Р. Познер, Г. Демсец, С. Пейович, Т. Эггертссон и др.
источник
Институт как единица анализа . Приведенная выше формула нормы описывает широкое разнообразие различных правил — от часто меняющихся под влиянием обстоятельств индивидуальных привычек до переживающих века традиций.
В рамках этого разнообразия правил важно разграничить, на данном этапе анализа, два больших класса, различающихся механизмами принуждения их к исполнению. В общем случае механизмом принуждения правила к исполнению мы будем называть совокупность, состоящую из его гаранта (или гарантов) и правил его действий, регулирующих применение санкций к выявленным нарушителям «базового» правила. По данному признаку множество всевозможных правил разделяется на:
1. Правила, в которых гарант нормы G совпадает с ее адресатом I ; такие правила выше были охарактеризованы как привычки; их можно назвать также стереотипами поведения или ментальными моделями поведения; для привычек свойствен внутренниймеханизм принуждения их к исполнению, поскольку санкции за их нарушения налагает на себя сам адресат правила;
2. Правила, в которых гарант нормы G не совпадает с ее адресатом I ; для таких правил характерен внешний механизм принуждения их к исполнению, поскольку санкции за нарушение таких правил налагаются на нарушителя извне, другими людьми.
Институт — это совокупность, состоящая из правила и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила.
Это определение отличается от других определений, широко используемых в экономической литературе. Например, лауреат премии имени Нобеля по экономике Дуглас Норт дает следующие варианты определений: «Институты — это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми».
В совокупности они определяют структуру стимулов в обществах и их экономиках».
Обобщая эти определения, А.Е. Шаститко трактует институт как «ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимо-действие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением этих правил».
Внимание к определению понятия института важно по той причине, что институты представляют собой базовую единицу анализа институциональной экономической теории, а ихсовокупность составляет предмет этой теории. Очевидно, четкое определение предмета исследования необходимо для систематического изложения любой научной теории.
Существование института говорит о том, что действия людей зависят друг от друга и влияют друг на друга, что они вызывают последствия (экстерналии, или, иными словами, внешние эффекты), учитываемые другими людьми и самим действующим экономическим агентом. Естественные механизмы в результате их объективного существования приводят к схожим результатам, однако повторяющиеся действия оказываются следствиями решений, принимаемых отдельными экономическими агентами независимо друг от друга и без учета возможных санкций, которые к ним может применить гарант той или иной нормы.
Рассмотрим несколько условных ситуаций. Люди, живущие на верхних этажах высоких домов, желая выйти на улицу, пользуются лифтами (в случае их поломки — спускаются по лестнице), демонстрируя, тем самым, безусловную повторяемость своего поведения. Никто из них не выпры-гивает в окна: человек понимает, что такой его поступок будет «наказан» законом тяготения. Можно ли говорить об отмеченной регулярности как об институте? Нет, поскольку механизм «наказания» отклонения от общего порядка действий не имеет никакого отношения к созданию его людьми.
На конкурентном рынке цены на однородную продукцию, демонстрируя определенную дисперсию, тем не менее, имеют одинаковый уровень. Продавец, установивший на таком рынке вдвое большую цену, определенно будет «наказан» разорением. Можно ли здесь говорить о существовании института установления равновесной цены? Нет, поскольку покупатели, избегающие приобретать товар по завышенной цене, вовсе не ставят перед собой цели наказать соответствующего торговца — они просто принимают (независимо друг от друга) рациональные решения, не планировавшимся результатом которых и оказывается «наказание» такого продавца.
Людям свойственно регулярно питаться: человек, отступающий от этой регулярности, рискует поступиться своим здоровьем. Является ли регулярное питание институтом? Читатель, ознакомившийся с приведенными выше примерами, уверенно ответит «нет», однако будет прав лишь частично: в жизни существуют ситуации, в которых регулярный прием пищи является институтом! Например, регулярность питания детей в семье поддерживается различными наказаниями уклоняющихся со стороны старших; регулярность питания солдат в армии поддерживается формальными нормами уставов; регулярность питания пациентов в больницах обеспечивается санкциями со стороны персонала. Таким образом, одно и то же наблюдаемое поведение может быть как следствием рационального выбора (скажем, творческий работник в процессе создания художественного произведения заставляет себя оторваться от работы для того, чтобы поесть) или привычки (основная масса регулярно питающихся людей), так и следствием действия социального института.
Важность разграничения закономерностей поведения на обусловленные институтами и определяемые другими причинами связана с правильным пониманием значения институтов в экономике и других сферах жизни общества, с решением практических задач повышения благосостояния и эффективности использования ресурсов.
источник
В рамках этого разнообразия правил важно разграничить, на данном этапе анализа, два больш их класса, различающихся механизмами принуждения их к исполнению. В общем случае механизмом принуждения правила к исполнению мы будем называть совокупность, состоящую из его гаранта (или гарантов) и правил его действий, регулирующих применение санкций к выявленным нарушителям «базового» правила. По данному признаку множество всевозможных правил разделяется на:
1. Правила, в которых гарант нормы 4 совпадает с ее адресатом I; такие правила выш е были охарактеризованы как привычки; их можно назвать также стереотипами поведения или ментальными моделями поведения; для привычек свойствен внутренний механизм принуждения их к исполнению, поскольку санкции за их нарушения налагает на себя сам адресат правила;
2. Правила, в которых гарант нормы 4 не совпадает с ее адресатом I; для таких правил характерен внешний механизм принуждения их к исполнению, поскольку санкции за наруш ение таких правил налагаются на наруш ителя извне, другими людьми.
Соответственно, понятию института можно дать следующее определение:
Институт — это совокупность, состоящая из правила и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила
Это определение отличается от других определений, широко используемых в экономической литературе. Например, лауреат премии имени Нобеля по экономике Дуглас Норт дает следующие варианты определений:
«институтыы — это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданныге человеком ограничительныге рамки, которыге организуют взаимоотношения между людьми»[4], это «правила, механизмыг, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которыге структурируют повторяющиеся взаимодействия между людъми»[5], «формалъные правила, неформалъные ограничения и способы обеспечения действенности ограничений» , или же «придуманные людъми ограничения, которые структурируют взаимодействия людей. Их составляют формалъные ограничения (правила, законы, конституции), неформалъные ограничения (социалъные нормы, условности и принятые для себя кодексы поведения) и механизмы принуждения к их исполнению. В совокупности они определяют структуру стимулов в обществах и их экономиках»[6].
Обобщая эти определения, А.Е. Шаститко трактует институт как
«ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением этих правил»[7].
На практике можно полъзоватъся любым из этих определений, если четко помнить то обстоятельство, что механизм принуждения к исполнению «базового» правила в рамках института, — это внешний механизм, специалъно созданный людъми для этой цели.
Внимание к определению понятия института важно по той причине, что институты представляют собой базовую единицу анализа институциональной экономической теории, а их совокупностъ составляет предмет этой теории. Очевидно, четкое определение предмета исследования необходимо для систематического изложения любой научной теории. Одновременно, отделение содержания одного понятия от схожих с ним важно и с чисто практической точки зрения, поскольку гарантирует от ошибочного перенесения выводов, сделанных применительно к одним объектам и ситуациям, на другие, отличные от них, объекты и ситуации.
Чтобы пояснить важность этой роли строгого определения понятия института, обратим внимание на следующие моменты.
Существование института говорит о том, что действия людей зависят друг от друга и влияют друг на друга, что они вызывают последствия (экстерналии, или иными словами, внешние эффекты), учитываемые другими людьми и самим действующим экономическим агентом. Естественные механизмы в результате их объективного существования приводят к схожим результатам, однако повторяющиеся действия оказываются следствиями решений, принимаемых отдельными экономическими агентами независимо друг от друга и без учета возможных санкций, которые к ним может применить гарант той или иной нормы.
Рассмотрим несколько условных примеров. Люди, живущие на верхних этажах высоких домов, желая выйти на улицу, пользуются лифтами (в случае их поломки — спускаются по лестнице), демонстрируя, тем самым, безусловную повторяемость своего поведения. Никто из них (за исключением самоубийц) не выпрыгивает в окна: человек понимает, что такой его поступок будет «наказан» законом тяготения. Можно ли говорить об отмеченной регулярности как об институте? Нет, поскольку механизм «наказания» отклонения от общего порядка действий не имеет никакого отношения к созданию его людьми.
На конкурентном рынке цены на однородную продукцию, демонстрируя определенную дисперсию, тем не менее, имеют одинаковый уровень. Продавец, установивший на таком рынке вдвое большую цену, определенно будет «наказан» разорением. Можно ли здесь говорить о существовании института установления равновесной цены? Нет, поскольку покупатели, избегающие приобретать товар по завышенной цене, вовсе не ставят перед собой цели наказать соответствующего торговца, — они просто принимают (независимо друг от друга) рациональные решения, не планировавшимся результатом которых и оказывается «наказание» такого продавца.
Людям свойственно регулярно питаться: человек, отступающий от этой регулярности, рискует поступиться своим здоровьем. Является ли регулярное питание институтом? Читатель, ознакомившийся с приведенными выше примерами, уверенно ответит «нет», однако будет прав лишь частично: в жизни существуют ситуации, в которых регулярный прием пищи является институтом! Например, регулярность питания детей в семье поддерживается различными наказаниями уклоняющихся со стороны старших; регулярность питания солдат в армии поддерживается формальными нормами уставов; регулярность питания пациентов в больницах обеспечивается санкциями со стороны персонала. Таким образом, одно и то же наблюдаемое поведение может быть как следствием рационального выбора (скажем, творческий работник в процессе создания художественного произведения заставляет себя оторваться от работы для того, чтобы поесть) или привычки (основная масса регулярно питающихся людей), так и следствием действия социального института.
Важность разграничения закономерностей поведения на обусловленные институтами и определяемые другими причинами связана с правильным пониманием значения институтов в экономике и других сферах жизни общества, с реш ени- ем практических задач повыш ения благосостояния и эффективности использования ресурсов. Если анализ показывает, что некоторые массовые действия нерациональны, источник этого можно (и нужно) искать как в сфере объективных причин, так и в сфере институтов, регулирующих поведение.
источник
Институт как единица анализа. Приведенная выше формула нормы описывает широкое разнообразие различных правил — от часто меняющихся под влиянием обстоятельств индивидуальных привычек до переживающих века традиций.
В рамках этого разнообразия правил важно разграничить на данном этапе анализа два больших класса, различающихся механизмами принуждения их к исполнению. В общем случае механизмом принуждения правила к исполнению мы будем называть совокупность, состоящую из его гаранта (или гарантов) и правил его действий, регулирующих применение санкций к выявленным нарушителям «базового» правила. По данному признаку множество всевозможных правил разделяется на:
1. Правила, в которых гарант нормы G совпадает с ее адресатом I; такие правила выше были охарактеризованы как привычки; их можно назвать также стереотипами поведения или ментальными моделями поведения; для привычек свойствен внутренниймеханизм принуждения их к исполнению, поскольку санкции за их нарушения налагает на себя сам адресат правила.
2. Правила, в которых гарант нормы G не совпадает с ее адресатом I; для таких правил характерен внешний механизм принуждения их к исполнению, поскольку санкции за нарушение таких правил налагаются на нарушителя извне, другими людьми.
Это определение отличается от других определений, широко используемых в экономической литературе. Например, лауреат премии имени Нобеля по экономике Дуглас Норт дает следующие варианты определений: «Институты — это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми».
В совокупности они определяют структуру стимулов в обществах и их экономиках».
Обобщая эти определения, А.Е. Шаститко трактует институт как «ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимо-действие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением этих правил».
Внимание к определению понятия института важно по той причине, что институты представляют собой базовую единицу анализа институциональной экономической теории, а ихсовокупность составляет предмет этой теории. Очевидно, четкое определение предмета исследования необходимо для систематического изложения любой научной теории.
Существование института говорит о том, что действия людей зависят друг от друга и влияют друг на друга, что они вызывают последствия (экстерналии — внешние эффекты, т.е. воздействие сделки на третьи лица (лица, не участвующие в сделке), не учтенные в договоре), учитываемые другими людьми и самим действующим экономическим агентом.
Естественные механизмы в результате их объективного существования приводят к схожим результатам, однако повторяющиеся действия оказываются следствиями решений, принимаемых отдельными экономическими агентами независимо друг от друга и без учета возможных санкций, которые к ним может применить гарант той или иной нормы.
Рассмотрим несколько условных ситуаций. Люди, живущие на верхних этажах высоких домов, желая выйти на улицу, пользуются лифтами (в случае их поломки — спускаются по лестнице), демонстрируя тем самым безусловную повторяемость своего поведения. Никто из них не выпрыгивает в окна: человек понимает, что такой его поступок будет «наказан» законом тяготения. Можно ли говорить об отмеченной регулярности как об институте? Нет, поскольку механизм «наказания» отклонения от общего порядка действий не имеет никакого отношения к созданию его людьми.
На конкурентном рынке цены на однородную продукцию, демонстрируя определенную дисперсию, тем не менее имеют одинаковый уровень. Продавец, установивший на таком рынке вдвое большую цену, определенно будет «наказан» разорением. Можно ли здесь говорить о существовании института установления равновесной цены? Нет, поскольку покупатели, избегающие приобретать товар по завышенной цене, вовсе не ставят перед собой цели наказать соответствующего торговца — они просто принимают (независимо друг от друга) рациональные решения, не планировавшимся результатом которых и оказывается «наказание» такого продавца.
Людям свойственно регулярно питаться: человек, отступающий от этой регулярности, рискует поступиться своим здоровьем. Является ли регулярное питание институтом? Читатель, ознакомившийся с приведенными выше примерами, уверенно ответит «нет», однако будет прав лишь частично: в жизни существуют ситуации, в которых регулярный прием пищи является институтом! Например, регулярность питания детей в семье поддерживается различными наказаниями уклоняющихся со стороны старших; регулярность питания солдат в армии поддерживается формальными нормами уставов; регулярность питания пациентов в больницах обеспечивается санкциями со стороны персонала. Таким образом, одно и то же наблюдаемое поведение может быть как следствием рационального выбора (скажем, творческий работник в процессе создания художественного произведения заставляет себя оторваться от работы для того, чтобы поесть) или привычки (основная масса регулярно питающихся людей), так и следствием действия социального института.
Важность разграничения закономерностей поведения на обусловленные институтами и определяемые другими причинами связана с правильным пониманием значения институтов в экономике и других сферах жизни общества, с решением практических задач повышения благосостояния и эффективности использования ресурсов.
Значение институтов
Из наблюдений за экономической жизнью легко убедиться, что принимаемые государ-ственной властью законы, определяющие те или иные правила осуществления различных хозяйственных операций — заключения договоров, ведения бухгалтерского учета, проведения рекламных кампаний и т.п., — самым непосредственным образом сказываются как на структуре и уровнях издержек, так и эффективности и результатах хозяйственной деятельности предприятий.
Так, налоговые льготы венчурному капиталу стимулируют рискованные инвестиции в инновационный процесс — важнейший ресурс экономического роста в современной экономике. Запрет на использование в странах Европейского Сообщества авиадвигателей с чрезмерным уровнем шума может обусловить ощутимые негативные последствия для отечественного самолетостроения и туризма. Различные варианты разрешения конфликтов между работодателями и наемными работниками, в частности, связанные с участием или неучастием в них профсоюзов, могут значительно изменить ситуацию на рынке труда.
Упомянутые правила представляют собой формы осуществления государственного регулирования экономики, т.е. сознательных действий государства и его отдельных органов, нацеленных на изменение поведения экономических агентов.
Вопрос о значении институтов, об их воздействии на экономический рост и эффективность экономики неоднократно затрагивается в классических работах исследователей, заложивших основы новой институциональной экономической теории.
Так, в книге Д. Норта «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» приводится множество исторических примеров, наглядно демонстрирующих разнообразный характер и масштабы такого воздействия.
Один из наиболее ярких примеров такого рода — объяснение Д. Нортом резкого расхождения в экономическом могуществе Англии и Испании, произошедшего в Новое время, после длительного состояния примерного равенства их сил в XVI-XVII вв. По его мнению, причиной роста экономики Англии и стагнации экономики Испании были не ресурсы как таковые (Испания получила их из американских колоний больше, чем Англия), а характер взаимоотношений королевской власти и экономически активного дворянства. В Англии возможности короны в сфере изъятия доходов и другого имущества были существенно ограничены парламентом, представлявшим дворянство. Последнее, располагая тем самым надежной защитой своей собственности от властных посягательств, могло осуществлять долгосрочные и выгодные капиталовложения, результаты которых и выразились во впечатляющем экономическом росте.
В Испании же власть короны была ограничена кортесами чисто формально, так что экспроприация имущества у потенциально экономически активных субъектов была вполне возможной. Соответственно, значимые и долгосрочные капиталовложения делать было весьма рискованно, и получаемые из колоний ресурсы использовались для потребления, а не для накопления. Как долгосрочное следствие принятых в этих странах базовых политико-экономических (конституционных) правил Великобритания стала мировой державой, а Испания трансформировалась во второразрядную европейскую страну.
Институты, отнюдь не являвшиеся способами государственного регулирования экономики, в этом примере проявили себя в Испании как мощные ограничения на деловую активность, фактически подавлявшие экономическую инициативу. В новейшей российской истории период 1917-1991 гг. в этом плане можно охарактеризовать как десятилетия, в течение которых экономическая инициатива подавлялась не только косвенно, но и формально-юридически:
в Уголовном кодексе СССР частнопредпринимательская деятельность трактовалась как уголовное преступление. Вместе с тем политические институты Великобритании выступили мощными ускорителями экономического роста.
Приведенные примеры, демонстрирующие экономическое значение на первый взгляд неэкономических институтов, обладают одной особенностью: все они фактически являются лишь возможными интерпретациями наблюдаемых общественных процессов.
В этой связи особую важность для убедительного доказательства экономического значения различных групп институтов имеют свидетельства, полученные в исследованиях второй половины 90-х годов XX века, использовавших технику эконометрического анализа для проведения межстрановых сопоставлений и выявления воздействий различных факторов на экономический рост. Проекты показывают статистически достоверную позитивную связь между показателями экономического роста стран и «качеством» функционирующих в них институтов: чем выше индикаторы последнего, тем выше и устойчивее, в общем случае, демонстрируемые показатели экономического роста.
Приведем вкратце результаты одного из таких исследований, проведенного сотрудниками Мирового банка. В нем были сопоставлены данные по 84 странам за период 1982-1994 гг., характеризующие, с одной стороны, их экономический рост, а с другой — качество проводив-шейся экономической политики и степень защищенности прав собственности и контрактов.
В роли измерителя экономического роста использовался показатель роста реального ВВП на душу населения. Качество экономической политики оценивалось по трем показателям: уровень инфляции, собираемость налогов и открытость для внешней торговли. Степень защищенности прав собственности и контрактов как выражение качества институциональной среды в стране измерялась индикатором, разработанным в Международном руководстве по оценке страновых рисков. Этот индикатор включает многочисленные оценки защищенности прав собственности и контрактов, объединяемые в пять групп: власть закона, риск экспроприации собственности, отказ от исполнения контрактов со стороны правительства, уровень коррупции во властных структурах и качество бюрократии в стране.
На первом этапе проведенного исследования Ф. Кифер и М. Ширли построили типологию стран по значениям названных качественных индикаторов, выделив для каждого из них по две градации — высокий уровень и низкий уровень, определив затем для каждой из сформировавшихся четырех групп стран средние значения показателя экономического роста. Оказалось, что в странах с высоким качеством экономической политики и высоким качеством институтов темпы экономического роста составили около 2,4 %; в странах с низким качеством экономической политики и высоким качеством институтов — 1,8 %; в странах с высоким качеством политики и низким качеством институтов — 0,9 %; в странах с низким качеством обоих факторов — -0,4 %. Иными словами, страны с неадекватной экономической политикой, но качественной институциональной средой росли в среднем вдвое быстрее, чем страны с обратной комбинацией уровней качества соответствующих факторов.
Анализ показал, что степень влияния институционального индикатора на темпы роста реальных душевых доходов оказалась почти вдвое выше, чем степень влияния политических индикаторов.
Функции институтов
Посредством каких механизмов приобретают и реализуют институты свое экономическое значение? Для ответа на этот вопрос необходимо охарактеризовать те функции, которые они выполняют в хозяйственной жизни, в деятельности экономических агентов.
Прежде всего, как отмечалось ранее, институты ограничивают доступ к ресурсам и разнообразие вариантов их использования, т.е. выполняют функцию ограничений в задачах принятия экономических решений.
Ограничивая возможные способы действий и линии поведения или даже предписывая только один допустимый способ действия, институты также координируютповедение экономических агентов, оказавшихся в ситуации, описываемой условиями приложения соответствующей нормы.
Действительно, описание содержания института, действующего в некоторой ситуации, дает каждому из экономических агентов, находящихся в ней, знание о том, как должен (и, скорее всего, будет) вести себя его контрагент. Исходя из него агенты будут формировать собственную линию поведения, учитывая ожидаемые действия другой стороны, что и означает возникновение координации в их поступках.
Подчеркнем, что условием такой координации является информированность агентов о содержании института, регулирующего поведение в той или иной ситуации. Если один из субъектов знает, как должно вести себя при определенных обстоятельствах, а другой нет, координация может быть нарушена, вследствие чего участники взаимодействия могут понести непроизводительные издержки. Типичный пример — правила дорожного движения: водитель, не знающий их, при пересечении его пути с главной дорогой может попытаться проехать, не пропустив поперечно идущий транспорт, что, в свою очередь, может привести к столкновению автомобилей.
Выполнение институтами функции координации действий экономических агентов порождает и обусловливает возникновение координационного эффекта. Суть его заключается в обеспечении экономии для экономических агентов на издержках изучения прогнозирования поведения других экономических агентов, с которыми они сталкиваются в различных ситуациях.
Действительно, если правила строго выполняются, нет нужды специально затрачивать усилия на то, чтобы предугадать, как поведут себя партнеры: круг их возможных поступков прямо очерчен действующим институтом.
Координационный эффект институтов реализуется через снижение уровня неопределенности среды, в которой действуют экономические агенты.
Снижение уровня неопределенности внешней среды, обеспечиваемое существованием институтов, позволяет планировать и осуществлять долгосрочные инвестиции, добиваясь создания большей стоимости. Кроме того, средства, сэкономленные на исследовании и предсказании поведения контрагентов, также могут быть использованы в производительных целях, усиливая координационный эффект. Напротив, в условиях неопределенной среды, при отсутствии действующих институтов экономические агенты не только сталкиваются с низкой ожидаемой выгодой от намечаемых инвестиций (что, очевидно, может привести к отказу от их осуществления), но и вынуждены расходовать средства на различные меры предосторожности при осуществлении хозяйственных мероприятий, например — на страхование сделок или отдельных их компонентов. Тем самым координационный эффект выступает одним из тех механизмов, посредством которых институты оказывают воздействие на эффективность функционирования экономики.
Здесь необходимо отметить, что координационный эффект институтов возникает и проявляет себя как фактор, позитивно влияющий на экономику лишь в том случае, если институты согласованы между собой по предписываемым направлениям действий экономических агентов. Если разные правила, совпадающие по условиям их применения, определяют несовпадающие типы поведения, неопределенность внешней среды для экономических агентов возрастает. Особенно, когда в совокупности институтов отсутствует некоторое «мета-правило», упорядочивающее действия противоречащих друг другу правил.
Любой институт, ограничивая множество возможных способов действий, в силу этого влияет на распределение ресурсов экономическими агентами, выполняя распределительную функцию. Важно подчеркнуть, что на распределение ресурсов, выгод и издержек воздействуют не только те правила, содержанием которых непосредственно является передача благ от одного агента другому (например, налоговое законодательство или правила определения таможенных сборов), но и те, которые прямо не касаются этих вопросов.
Например, установление сложных правил выдачи лицензий на занятие определенными видами предпринимательской деятельности может существенно сократить приток в нее начинающих предпринимателей, снизить уровень конкурентности соответствующего рынка, повысить цены на торгуемое на нем благо и, в конечном счете, перераспределить денежные средства покупателей.
Кроме разнообразных специфических распределительных последствий, любой институт характеризуется и некоторым общим, «типовым» распределительным эффектом: ограничивая множество возможных способов действий, он либо непосредственно переключает ресурсы на их разрешенное подмножество, либо как минимум увеличивает издержки осуществления запре-щенных способов действий за счет включения в их состав ожидаемого ущерба от применения наказания (санкций) к нарушителю правила.
Масштабы распределительных последствий действия института могут варьироваться в очень широких пределах, причем связь этих масштабов с содержанием нормы далеко не прямая.
Например, упоминавшийся выше запрет на предпринимательскую деятельность, существо-вавший в СССР, с одной стороны, перераспределял предпринимательскую инициативу в теневую составляющую экономики, с другой стороны, переключал ее в сферу управленческой деятельности, существенно видоизменив всю структуру предпочтений на рынке труда.
С отдаленными последствиями этих перераспределений сталкивается сегодня российская экономика, испытывая явную нехватку малых предприятий.
Итак, воздействие институтов на распределение ресурсов, выгод и издержек составляет второй механизм, обусловливающий их экономическое значение.
источник
Констатация органической целостности культуры ставила определенные проблемы для полевого исследователя, прежде всего проблемы методического свойства, связанные с тем, что язык не предназначен для описания всего сразу. Требовалось перевести этот холистический принцип в такой язык описания и анализа, который бы ему не противоречил. Эту задачу Малиновский попытался решить посредством создания аналитических понятий и категорий, пригодных для прямого применения в полевых условиях.
Прежде всего он выделил три аспекта, присутствующих как в культуре в целом, так и в каждом отдельном ее фрагменте. Это (1) материальный субстрат, или «аппарат», включающий артефакты, (2) «человеческий элемент», включающий социальные связи людей, организованные группы, стандартные типы поведения и т. п., и (3) «духовный элемент», включающий символические акты и системы символов. При изучении любого культурного явления должны приниматься во внимание все три аспекта, причем в их взаимосвязи.
1 Малиновский Б. Научная теория культуры. С. 23.
СОЦИОЛОГИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 203
Кроме того, требовалось решить, какие именно «явления» антропологу следует брать как законные «единицы» описания и анализа. Без определения таких «единиц конкретной культурной реальности», т. е. «реальных и значимых элементов культуры», никакой науки о культуре быть не может. Малиновский исходит из того, что выделять «единицы анализа» следует на научной основе, и считает такой основой тот ключевой факт, что совместная деятельность людей всегда является организованной: «все фазы существования [человека] связаны с той или иной из систем организованной деятельности, на которые можно подразделить нашу культуру» 1 . Именно в «организации» выражается интеграция культурной деятельности, ее внутренняя взаимосвязь, ее целостное, холистическое качество. Единицей организации является институт.
Институт, с точки зрения Малиновского, — это единственный способ организации любого вида совместной деятельности, единственный способ его стабилизации. Институт есть относительно целостное образование, в котором могут быть аналитически выделены три уже названных аспекта (материальный, человеческий и духовный). Соответственно изучать* его нужно во всей его целостности, выясняя, «каким образом материальные детерминанты, действия людей, а также верования и идеи, т. е. символические акты, включены в эту конкретную обособленную единицу или культурную реалию, как эти факторы взаимодействуют и обретают характер постоянной и необходимой связи друг с другом» 2 .
Будучи целостным образованием, институт вместе с тем может быть аналитически разделен на три основных аспекта: (1) хартию, (2) личный состав, или персонал, и (3) правила и нормы. Эти три аспекта должны выполнять роль ориентиров для вычленения релевантных аспектов в полевом наблюдении, но при этом должны изучаться в соотнесении друг с другом и никак иначе.
Личный состав — это «группа людей, организованная в соответствии с определенными принципами власти, разделения функций, распределения привилегий и обязанностей» 3 . Включение в институт этого компонента представляется Малиновскому крайне важным. Прежде всего оно отражает тот основополагающий факт, что люди всегда организованы в стабильные группы, являющиеся субъектами коллективной деятельности. Поскольку все институты связаны с определенными группами, институт можно изучать,
1 Малиновский Б. Научная теория культуры. С. 53.
История социологии

Под правилами и нормами понимается аспект нормативного контроля. Сюда Малиновский включает «технически приобретаемые навыки, привычки, правовые нормы и этические обязательства, которые принимаются членами группы или им предписываются» 2 .
Организация личного состава института и природа правил прямо связаны с хартией института и даже, по мнению Малиновского, производны и зависимы от нее. Понятие «хартия» никем, кроме Малиновского, не употреблялось и в силу этого требует специального пояснения. Каждый институт «предполагает согласие по поводу некоторого набора традиционных ценностей, ради которых люди объединяются друг с другом» 3 . Для группы, на базе которой существует институт, хартия может выступать как ее «признанная цель» либо как «система ценностей», оправдывающая для ее членов вступление в нее или ее учреждение. «Хартия — это идея, лежащая в основе культурного института, поддерживаемая его участниками и определяемая обществом в целом» 4 . Например, для примитивной локальной группы хартией может быть миф о происхождении от общего предка. Из хартии всегда вытекают определенные обязательства морального и правового характера. Сам Малиновский вкладывал в это понятие не сразу заметную полемическую направленность, в частности против марксизма (утверждая, что в основе экономических институтов лежат ценностные идеи) и против спекулятивных реконструкций истории институтов (подставляя «хартию» как наличное обоснование существования института на место «истока» как реальной исторической причины его появления, скрытой в далеком прошлом и недоступной для познания).
1 Малиновский Б. Научная теория культуры. С. 148.
3 Малиновский Б. Научная теория культуры // Культурология. С. 36.
4 Малиновский Б. Научная теория культуры. С. 54.
СОЦИОЛОГИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 205
Деятельность, осуществляемая в рамках того или иного института, всегда протекает в определенной среде и должна рассматриваться в соотнесении с ней. Для Малиновского это означает необходимость включить в круг рассмотрения «материальный аппарат» института, т.е. всю сумму материальных объектов, втянутых в соответствующую коллективную деятельность, прежде всего орудия и производимые продукты.
Наконец, Малиновский требует обращать особое внимание на функцию института, под которой понимает «роль данного института в целостной схеме культуры», или связь соответствующего типа деятельности и его результата с «жизнью сообщества в целом» 1 , функция каждого института связана с удовлетворением потребностей индивидов и общества в целом. Определяя функцию института, антрополог одновременно определяет место, занимаемое в сообществе соответствующей группой.
Говоря о функции как результате деятельности группы, Малиновский требовал отличать ее от хартии. Это методологическое требование, которого сам Малиновский далеко не всегда строго придерживался, получило развитие в позднейших версиях структурного функционализма, в частности у Р. Мертона, где оно легло в основу различения явных и латентных функций.
Таким образом, институциональный анализ предполагает рассмотрение каждого отдельного института во всех аспектах его функционирования. Хартия, социальная организация личного состава, нормы, материальный аппарат, связь со средой, деятельность и ее функции — все должно приниматься во внимание. Малиновский резюмирует это так: «Будучи организованы в соответствии с хартией и сотрудничая в рамках этой организации, следуя правилам некоторого специфического рода занятий и используя имеющийся в их распоряжении аппарат, участники группы включаются в деятельность, ради которой они и организовали группу» 2 .
В конечном счете, по мнению Малиновского, «культура есть Целое, состоящее из отчасти автономных, а отчасти скоординированных институтов», а потому антропология как наука о культуре Должна быть «теорией институтов, т. е. конкретным анализом типовых единиц организации» 3 .
Несмотря на то что институты в разных культурах и да-* е внутри одной и той же культуры отличаются друг от друга,
Малиновский Б. Научная теория культуры. С. 54—55. 2 Там же. С. 57. Малиновский Б. Научная теория культуры // Культурология. С. 37-38.
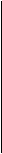
| Принципы интеграции | Институты |
| 1. Кровная общность, обеспечивающая продолжение рода | Семья, способы добрачного ухаживания, брак, различные родственные группы (в том числе расширенные), кланы и т. д. |
| 2. Пространственная близость, обусловливающая сотрудничество | Домохозяйства, кочевые орды, бродячие локальные группы, деревни, объединения селений и ферм, городские поселения, крупные города, округа, провинции, племена и т. д. |
| 3. Физиологические различия | Институционализированные возрастные и половые группы и т. д. |
| 4. Принцип ассоциации (добровольного объединения) | Тайные общества, клубы, кружки, творческие союзы, общества взаимопомощи, ложи, благотворительные фонды и т. д. |
| 5. Специализация деятельности, в том числе разделение труда | Группы, связанные с производством, распределением и потреблением благ: маги, колдуны, жрецы, хозяйственные группы, цехи, гильдии, предприятия, профессиональные объединения, школы, колледжи, университеты, научные учреждения, законодательные органы, полиция, суды, армия, секты, церковь и т. д. |
| 6. Формальные различия статуса и ранга | Сословия, ордены, касты, стратификация и т. д. |
| 7. Всеобъемлющая интеграция на основе гомогенности культуры и единства власти | Племя, национальность, культурные (региональные) группы, этнические меньшинства, гетто, политические единицы (племена-нации и племена-государства |
Малиновский считал возможным их классифицировать. В качестве основания классификации он взял типовые принципы ин-‘ теграции, соответствующие кругу общих проблем, решаемых так или иначе каждой культурой. На базе каждого из этих принципов складываются определенные виды социальных групп и соответственно институтов.
Этот примерный перечень предназначался главным образом для полевых исследователей как схема, акцентирующая внимание на подлежащих описанию единицах. Целостное описание конкретной культуры как идеал, к которому нужно стремиться, преД»
полагало описание «всех институтов, составляющих эту культуру» 1 . Но этой задачей полевые исследования не ограничивались. Более того, они должны были быть нацелены прежде всего на адекватное и полное объяснение конкретных культурных феноменов, идей, обычаев; и здесь эта схема тоже должна была помочь, так как конкретные факты «не могут быть определены иначе как путем помещения в реальный и релевантный контекст культурного института» 2 .
Предлагая описанную схему институционального анализа, Малиновский не решил по крайней мере двух важных проблем. Одна из этих неудач была связана с уже упомянутым ранее недостаточным различением теории и метода. Малиновский так и не смог решить, являются ли институты аналитическими единицами, на которые удобно разложить культуру в целях ее изучения 3 , или же реальными, онтологическими единицами, хотя чаще склонялся к последней, натуралистической их трактовке, так как она больше отвечала его пониманию культуры как органического целого. Вторая нерешенная проблема заключалась в том, действительно ли разным культурам присущ одинаковый набор базовых институтов или это еще нуждается в проверке. Иногда постулируется, что «всем культурам в качестве их основного общего измерения присущ некоторый набор институциональных типов» 4 , что «типы культурных институтов. содержат некоторые фундаментальные сходства по всему обширному спектру культурного поведения» 5 . Одновременно в других местах указывается, что схема типовых институтов должна обеспечить основу для сравнительного исследования и доказательства того, что в основании всех культур лежит один и тот же набор типовых институционализированных групп 6 .
Эта двойственность оказалась спроецирована на полевые исследования Малиновского и его учеников. В конечном счете они оказались сосредоточены на уникальности «органических» связей внутри отдельно взятых культур и чаще всего были несопоставимы-
1 Малиновский Б. Научная теория культуры. С. 54.
Иногда он прямо указывал, что «каждая отдельная культура должна аналитически разделяться на институты» (см.: Малиновский Б. Научная теория культы // Культурология. С. 38; курсив мой. — В. К).
Малиновский Б. Научная теория культуры // Культурология. С. 38.
Малиновский Б. Научная теория культуры. С. 56. 6 Там же. С. 59.

ми. Воплотив в себе «теорию» Малиновского как рабочий метод, они фактически отрицали ее как собственно теорию.
Дата добавления: 2016-11-12 ; просмотров: 353 | Нарушение авторских прав
источник
Совершая любые действия, в том числе и экономические, индивид действует в рамках определенного социума. Поэтому для этого индивида может иметь большое значение реакция общества, так как сделка, приносящая доход в одном месте, необязательно окажется целесообразной даже при сходных условиях в другом.
Чтобы избежать возникновение таких ситуаций, необходимо разработать определенные алгоритмы поведения, являющегося при данных условиях наиболее эффективным и влияющим на успешность принятых экономических решений. Эти алгоритмы и есть институты.
Определить, что такое институты, непросто. Институты весьма разнообразны, и определение должно быть достаточно общим, чтобы охватить все их разнообразие. Понять, что такое институты, можно, только выяснив основания их возникновения, проследив, как они развиваются, и определив те функции, которые они выполняют.
Institution (англ.) – общество, организация, учреждение; нечто установленное (закон, обычай, система); общественный институт.
Понятие института было заимствовано экономистами из социальных наук, в частности из социологии.
Институтом называется совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной потребности[21].
В экономической теории впервые понятие института было включено в анализ Торстейном Вебленом.
Институты – это, по сути дела, распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций; и система жизни общества, которая слагается из совокупности действующих в определенное время или в любой момент развития какого угодно общества, может с психологической стороны быть охарактеризована в общих чертах как превалирующая духовная позиция или распространенное представление об образе жизни в обществе[22].
Также под институтами Веблен понимал:
— привычные способы реагирования на стимулы;
— структуру производственного или экономического механизма;
— принятую в настоящее время систему общественной жизни.
Другой основоположник институционализма, Джон Коммонс, определяет институт следующим образом: «Институт– коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия».
У другого классика институционализма – Уэсли Митчелла – можно найти следующее определение: «Институты – господствующие и в высшей степени стандартизированные общественные привычки».
В настоящее время в рамках современного институционализма наиболее распространенной является трактовка институтов Дугласа Норта: «Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми»[23].
В последнее время в рамках новой институциональной экономики, видным представителем которой является Оливер Уильямсон, сформировалась отличная от представленной ранее точка зрения на экономическую природу института. Согласно Уильямсону, институтырассматриваются как механизмы управления контрактными отношениями. Поэтому важнейшими экономическими институтами являются фирмы, рынки и отношенческая контрактация[24]. Такой подход концентрирует основное внимание на уровне опосредуемых институтами отдельных трансакций и проблеме их минимизации.
А.Е. Шаститко трактует институт как «ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением этих правил»[25].
На практике можно пользоваться любым из этих определений, но нужно помнить, что это внешний механизм, специально созданный людьми для принуждения к исполнению «базовых правил» в рамках института.
Определение института важно, так как институты представляют собой базовую единицу анализа институциональной экономики, а их совокупность – предмет этой теории.
Кроме того, в институциональной теории можно выделить несколько значений термина «институт», различающихся как по широте охвата экономических явлений, так и по смыслу.
1 Любой механизм координации и стимулирования. Это является самым широким значением данного термина, так что понятие «институт» включает в себя также и рынок как систему относительных цен.
2 Любой нерыночный механизм координации и стимулирования. Это более узкое значение нередко встречается, когда представители институциональной теории подчеркивают роль институтов (например, знаменитая фраза «институты имеют значение»), имея в виду любые механизмы координации и стимулирования кроме рынка.
3 (Институты-)правила, или институциональная среда. Еще более узкое значение термина «институт», включающее только правила, обеспечивающие порядок во взаимодействиях между людьми.
4 (Институты-)контракты, или (институты-)соглашения. Под контрактом в широком институциональном смысле подразумевается явный или неявный договор, организующий осуществление трансакций. Следует отметить, что согласно классификации Д. Норта контракты также являются разновидностью правил, находясь на низшей ступени их иерархии.
5 Организации. Организацию, например фирму, принято трактовать как сеть контрактов.
6 Институциональное устройство. Данный термин, предложенный О. Уильямсоном, имеет более широкий смысл и обозначает всякий способ сознательной организации трансакций, будь то контракты, организации или рыночный механизм.
К функциям институтов можно отнести:
1 Институты выполняют главную задачу экономической теории – обеспечивают предсказуемость результатов определенной совокупности действий (т. е. социальной реакции на эти действия) и таким образом привносят в экономическую деятельность устойчивость. Тот или иной институт предполагает, что, пойдя в некое место, вы с высокой степенью вероятности получите там то, что искали, затратив некие виды ресурсов, также известные вам заранее. Скажем, вы затратите, пойдя в магазин, определенное количество денег и получите скорее всего товар, который удовлетворяет тем или иным вашим потребностям. Это рыночный институт.
2 Институты наследуются благодаря свойственному им процессу обучения. Обучением может заниматься специализированная организация (так это обычно и бывает). Но обучение может идти и на уровне «learning by doing», когда люди в ходе работы следят за действиями их более опытных коллег и делают так же, как они.
3 Институтам присуща система стимулов, без которой они существовать не могут. Института просто нет, если нет системы стимулов позитивных (вознаграждения за следование определенным правилам) и негативных (наказания, которого люди ожидают за нарушение определенных правил).
4 Институты обеспечивают свободу и безопасность действий индивида в определенных рамках, что исключительно высоко ценится экономическими агентами.
5 Институты сокращают трансакционные затраты (т. е. затраты на поиск информации, ее обработку, оценку и специфическую защиту того или иного контракта), точно так же как технологии сокращают производственные затраты. Если экономический агент действует в системе, где государства нет (как это было на Диком Западе), или оно слабо (как сейчас у нас), то он вынужден нанимать каких-то людей, которые путем насилия или угрозы насилия заставят контрагента выполнить контракт. Ясно, что это дорого. Кроме того, зачастую в наших условиях он навсегда попадает под бандитскую «крышу» (корпорация, к которой он обращается за помощью, в результате поглощает его самого). Если же экономический агент действует в системе, где есть сильное государство, то оно защищает его интересы. Он просто обращается в суд и с относительно небольшими судебными издержками выигрывает дело. Таким образом, он экономит очень большие трансакционные издержки на наем какой-то альтернативной принудительной силы.
Институты регулируют доступ к законному использованию редких и ценных ресурсов, а также определяют принципы этого доступа. Они определяют, в чем состоят и каким образом должны воплощаться в жизнь те или иные интересы, учитывая тот факт, что сама редкость этих ресурсов, обусловливающая трудность доступа к ним, составляет основу для соперничества и даже конфликтов в борьбе за обладание ими. Институты регулируют (структурируют и закрепляют как общественно признанные практики[26]) подобную борьбу различных интересов. Они определяют правила игры, а также цели, которые в этой игре могут быть достигнуты, но не ходы, которые игроки должны делать в течение игры, оставаясь в рамках институционально определенного пространства возможностей, выбора и стимулов. Институты определяют способы, с помощью которых вызванный нехваткой ресурсов конфликт может быть смягчен и разрешен[27].
Функционирование институтов определяется родом их деятельности, культурными традициями и многими другими факторами, в числе которых эффективность является далеко не определяющим параметром. Перемены чаще происходят с ними потому, что меняются те ценности, которые обусловливают их существование, или они сами становятся несовместимыми с другими ценностями и институтами, но никак не по соображениям эффективности[28].
В современной западной политической экономии часто используется инженерный подход к институтам[29], согласно которому институты должны оцениваться с позиций результативности и обеспечивать повышение эффективности не только действия как такового, но и институциональной структуры (прав собственности, правил контрактации, отношений в промышленной организации, хозяйственного, и в частности трудового, законодательства и т. д.), в которой данное действие осуществляется. По мере того как институты внедряют или усваивают более эффективные методы работы (оцениваемые обычно с точки зрения трансакционных издержек), их следует преобразовывать, с тем чтобы максимизировать эффективность их деятельности и тем самым обеспечивать повышение благосостояния.
Обычно институты рассматривают с двух точек зрения – как правила или как ограничения для хозяйствующих субъектов. В последнее время представители новой институциональной экономики (NIE) все больше склоняются к тому, чтобы трактовать институты в первую очередь как ограничения, которые должны учитываться экономическими субъектами при различного рода оптимизационных решениях. Примером здесь может служить эволюция взглядов видного представителя новой институциональной экономической теории Дугласа Норта. Однако в рамках современного традиционного институционализма большинство исследователей склонны рассматривать институты больше как правила, которые возникают и эволюционируют из привычек[30].
Более подробно остановимся на определении и основных типах правил, с которыми имеют дело субъекты экономики.
Правила– совокупность общепризнанных и защищенных предписаний, которые запрещают или разрешают определенные виды действий одного индивида (или группы людей) при взаимодействии их с другими людьми или группами.
Правила, конституирующие институт, имеют смысл только тогда, когда они применяются более чем к одному человеку. С этой точки зрения любой институт — это набор определенных правил, тогда как правила — не всегда институт. Вот почему отделение одной категории от другой обоснованно.
Правила могут находиться в отношении соподчиненности, т. к. один тип правил изменить проще, чем другой.
Правила, непосредственно определяющие альтернативы для формулировки других правил и поддающиеся изменению с большими издержками, являются глобальными. Они формируют институциональную среду. В свою очередь глобальные правила состоят из конституционных, или политических, и экономических. К локальным правилам относятся двух- и многосторонние контракты, которые заключаются между отдельными экономическими агентами[31].
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
источник








